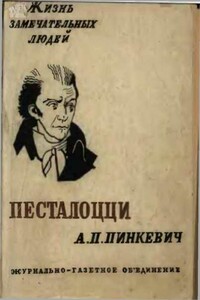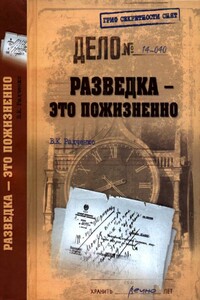Один за всех | страница 7
И в сонете, и в оде происходит одно и то же: влюбленный тянется к любимой, а она ускользает, превращаясь в вазу или в дерево. «Чтоб неумолчно слышать над собой / Ее дыханья шелест тополиный…» Так Дафна под руками Аполлона обернулась прохладно шелестящим лавром.
У Левика, увы, совершенно отсутствует этот мотив, все превращено в более или менее обычный любовный ноктюрн:
На мой взгляд, и «груди трепетанье», и «забыв покой для нег» звучат неверно, даже фальшиво. Здесь мы ощущаем границы владений Левика-переводчика. Он все-таки слишком преданный натуре художник, чуждый бесплотной мистики и выспренней экзальтации. А у Китса в поздних сонетах и в одах именно это: мистика и сакрализация мира — вопреки тому, что сам поэт был явным безбожником, даже вольтерьянцем. Вопреки или благодаря — трудно сказать, потому что религиозная энергия, изначально присущая всякой человеческой душе, у неверующего зачастую высвобождается чище и горячей, чем у добросовестного прихожанина церкви.
Это — то, что я видел уже тогда, и соответственно полагал, что перевод Левика по всем статьям проигрывает переводу Чухонцева. Лишь со временем я увидел и другое: то, чему можно поучиться у Вильгельма Вениаминовича и на этом сонете. Сравните первые два катрена:
Заметим, что в оригинале сонет Китса представляет собой одно предложение, гибкое и вьющееся. Чем ответит переводчик на этот вызов? У Чухонцева, если честно, все же заметны следы борения с английским синтаксисом: напряжение, оставшееся в самом начале: «О, быть и мне бы…» Русские стихи так не начинаются. Вариант Левика: «О, если б вечным быть, как ты, Звезда!» — вопросов не вызывает. За исключением, может быть, одного: куда делось слово «яркая»?