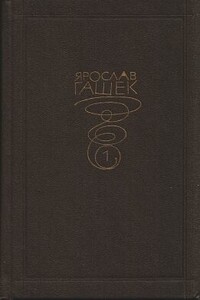Газета Завтра 965 (19 2012) | страница 58
С тех пор мы то и дело разговариваем с бабой Таней. К разговору всегда приглашает она меня.
Бегу в очередной раз через сквер. Баба Таня на своём месте. Мы улыбаемся друг другу, машем приветственно руками, а то и посылаем воздушные поцелуи. Она, если хочет поговорить, сначала машет рукой из стороны в сторону, приветствуя, а потом от себя — к себе, подзывая. Подхожу. Она берёт мою руку, трясёт, широко улыбаясь беззубым ртом. При этом разговор у неё довольно чистый, даже не шепелявит.
— Здравствуйте, баба Таня.
— Здравствуй, здравствуй, птичка моя. Ты ж как птичка всё леташь. Я по тёплой осени тебя приметила. Думаю: "Кто тута лятать так взялся, что за пичуга?" Думала, зимой шубу наденёшь, уж не взлятишь в шубе-то. А ты и в шубе леташь, золотая ты моя. А я представляю, что я с тобой лячу. И бабка через тебя лётом лятит. На работу лятишь?
— На работу.
— Начальник-то хорошай?
— Хороший.
— Да и без спросу можно угадать: к плохому так не побяжишь работыть, как на крылах вон. К плохому ноги не несут, хотя будь оне и резвы. Эта хорошо — начальник хорошай. Дажа если строг, но хорошо строг — тожа хорошо. Справедлива-то строгость не страшна, она нужна. Без её никак нельзя. Справедлив он у вас?
— Справедлив.
— Ну и оценяй. А то плохой где начальник — и от денёг хороших убяжишь,— баба Таня машет рукой. Из-за необходимости опираться на палку она ограничена в жестикуляции. Но эмоции ей удаётся передавать живейшей выразительной мимикой на простом круглом лице и маханием руки: вверх — вниз, слева — направо, наискосок. — И на строгость, коли справедлива, не обижайся, — наставляет меня бабушка.
— Я не обижаюсь.
— Дак ты жо умница,— она вновь берёт мою руку и трясет, улыбаясь во весь свой беззубый рот. — Ты ходить-то и не умеяшь, верно, всё бягом бяжишь. Ты не за курьера ли?
— Нет.
— А чаво бягом бегашь?
— Раньше спортом занималась, кроссы бегала, а теперь…
— Это вдоль реки по набережной-то бягут когда, — перебивает меня баба Таня,— ты тожа бягом бяжишь? Ну-ну. Я кроссы вижу, а тебя не вижу в кроссых-то. Далеко не вижу. Ну-ну. Ты вот с этих кроссыв как разбяжалась, и остановишься никак? А я уж отбегыла. Без кроссыв отбегыла: то брюхом — раняных ташшила, то не по земле, а в землю — окопы рыла. Вот.
— Вы где воевали?
— Нет, не воевала. На войне была, а не воевала.
— Ну, на войне были...
— А как не быть? Она война-то, хоть со стороны пришла, а сверху всех и придавила. Я комсомолка не была, а была родину любяща. Как это, думаю, чужи придут и скажут на нашу землю — наша! Нет. Не хочу! Эдак не годится дело, нет! А коли как не нравится, дак делай так, чтобы не случилось так, как не по тебе. Я и старуха, и в деревне своей давно не в деревне, а и сейчас чужому отдать не хочу! И сейчас поволоклась хоть вот палкой бить,— баба Таня поднимает палку и трясет ею угрожаюше, — какого другого германца. Да. И как войну по радиё сказали, я — в район. На фронт, мол, пойду. Меня — в стыд: кака из тебя солдат? Оден срам, а никакой не солдат. Стрелять винтовкой не умешь, летать самолётом не умешь, раны санитарить не умешь. Чё тебя брать, форму переводить? Заворотили.