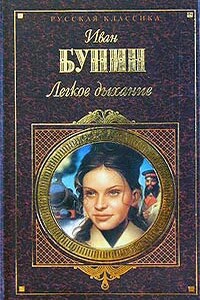Мать | страница 28
Но видно, что плохо слышал он ее суждения и глядел на нее молча, с жадным вниманием истосковавшегося ястребенка.
— Адвокатов двоих приговорила, — прокричала она ему, чтобы подбодрить его хоть маленькой надеждой: — Может, Бог даст, двое-то и устоят как…
Про адвокатов услышал. Спросил: как по фамилиям? Александр Дмитрич записал ей их на бумажку, велел заявление сделать. Одну фамилию она помнила — Николая Иваныча: Елкин. А другую — Соломона Ильича — забыла.
— Чудно как-то… Такой чернявенький. Из жидков. Суетной такой, верткий, чисто — ртуть…
— Фамилию надо!
— Да не выговорю! Как его, идола, — дай Бог памяти!.. Да она у меня вот на бумажке… Гомозной, чернявый такой…
Показала бумажку. И как только она помахала ею в воздухе, в ту же минуту коршуном налетел надзиратель и отобрал листок.
— Нельзя этого! — сказал он странно ликующим голосом. И понес его к офицеру.
— Да ты, дяденька, хочь и сам прочти! — кричала вслед ему Григорьевна, обрадовавшись неожиданному обороту дела. — А то я грамоте не умею… Насчет адвоката…
Офицер внимательно осмотрел бумажку и отдал назад. Надзиратель с разочарованным видом вернул ее Григорьевне.
— Уважь, дяденька, прочти мне… Забыла, а грамоте не знаю. Про адвоката Соломона Ильича… Прозвище забыла…
Он уважил. Прочитал: Гинзбург, Соломон Ильич…
— Ну, вот-вот! Енборс, Енборс! Так-то… так и есть… Енборс, чадушка моя, Соломон Ильич Енборс! — закричала она сыну, махая бумажкой.
VI
Всю ночь перед судом она не сомкнула глаз. Нечем было дышать, жар ходил по телу, и в груди боль перекатывалась, как тяжелый жернов. Старалась забыться, чтобы время прошло скорей, а время тянулось, как дорога в песках, — вязко, медленно и трудно. И страшные видения вставали перед закрытыми глазами. Суд представлялся: большая комната, как контора в тюрьме, такие же своды и решетки; судья — кособокий старичишка, весь серый, а глаза красные, злые, голос — как у дергача. «У меня веревок хватит!» — торжествующей нотой звучит его голос — и на столе перед ним пучки новых, ровно скрученных бечев… И глаза Ромушки, такие большие на исхудалом лице, раскрыты с детским испугом и без слов кричат к ней, матери, о помощи…
И мечется она, стараясь закрыть свое дитя, и грозится рукой на судей.
— Судьи вы, судьи, ученые вы господа! Бога вы, знать, забыли, креста нет на шее у вас, в грудях сердца не осталось! За что вы купырь мой зеленый стрескать хотите? Какая корысть вам из его головушки? Не грех вам лютым горем матерей, отцов сушить?..