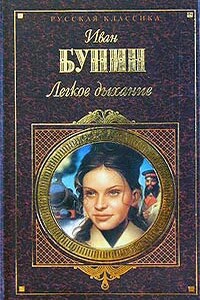Мать | страница 21
Старое, давнее было горе, а скорбь в нем звучала знакомая и близкая, точно не лежала вереница годов между ним и этими плачущими людьми, после родившимися, выросшими и уже успевшими увянуть…
IV
Езда по чугунке показалась Григорьевне верхом удобств. Сперва боялась, как бы не завезли неведомо куда, и все просила добрых людей сказать ей, много ли до города станций. Потом успокоилась: нашлись попутчики, люди словоохотливые и участливые, с ними и доехала благополучно до самого места. Сиротливо почувствовала себя лишь на вокзале — ушли ее спутники, каждый в свою сторону, а она с мешками осталась одна и не знала, куда ей направиться. Народ кругом чужой, деловой, неразговорчивый. Извозчик заломил безбожную цену — 40 копеек. Пробовала торговаться — не уступают: все, как сговорились, — 40 копеек, 40 копеек…
— Садись, одно знай! У нас — такция. Что в аптеке, то и у нас: копейки нельзя сбросить… Куда ехать?
— Да к Лександре Митричу!
— К какому-такому?
— Да офицер он. Из ученых. По лесной части…
— Мало тут офицеров!
— Женился недавно. Хозяйку Лександрой Григорьевной звать…
— Очень приятно… Но только ежели улицу не скажешь, ехать нам с тобой, тетка, некуда. Иди до полицейского, спрашивай. Улицу! Понимаешь?
— Да вот заметило мне улицу-то… Голова-то у меня больная. Горбатая улица? Кажись так-то… Горбатая…
— Есть Горбатая. А дом под каким номером?
— А дом не назову… Горбатая улица, горбатый дом… как-то этак, кубыть…
— Ну, на Горбатой, може, найдем. Садись.
Нашли-таки. Расспрашивали у встречных, в дворы заглядывали. И как раз молодая барыня Александра Григорьевна в окно угадала свою станичницу. Правда, видно, сказано: на чужой сторонушке рад своей воронушке. Обрадовалась, как родне, накормила, чаем напоила, обо всем расспросила. Обсудили сообща прежде всего в прокурорский надзор сходить — за удостоверением для пропуска в тюрьму, — очень уж хотелось Григорьевне поскорей сынка увидеть. А после — насчет адвокатов похлопотать.
Привел ее Александр Дмитриевич в суд. Поговорил с курьером, сунул ему в руку какую-то монету и ушел. Осталась Григорьевна на попечении этого усатого старика в медалях. Входило и проходило наверх много народу. Были и господа, и простые люди. Некоторым швейцар низко кланялся, — должно быть, важные начальники были. Раза два спрашивала у старика Григорьевна:
— Это кто, дяденька? Не к моей части?
— Не к твоей. Я скажу. Сиди.
Долго-таки сидела, заскучала даже. Наконец, пришел какой-то тонконогий, остриженный голо, как татарин. Засуетился около него старик, взял из рук сумку с бумагами, шубу снял. Тонконогий пошел наверх, проворно перескакивая через две ступеньки.