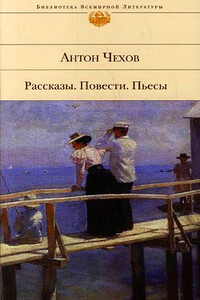Офицерша | страница 8
— Ты чего ищешь?
Смутилась, смешалась. Соврать не могла.
— Сулемы бы мне надо… чуточку… Догадалась мать сразу. Спросила:
— Ты чижолая?
— Что ты… с чего это?.. Мне жировку[2] сделать… Марья просила…
— Брешешь! Я не вижу, что ль…
Стала божиться Варвара, но избегает пристального, понимающего взгляда матери, не смотрит в глаза ей.
— Ну, сукина дочь! теперь отец узнает, — убьет! Страму какого… а!.. Так убьет и убьет!.. Как теперь зятя встречать будет? На всю родню порок!..
Сухое лицо матери, когда-то красивое, ясное такое, веселое, теперь — потемневшее, утомленное, с резкими морщинами между бровями, состарившими ее вечно озабоченным выражением, — стало вдруг чужим и безжалостным. Злобно перекосились сжатые губы, враждой загорелись глаза. Вот-вот размахнется, бить начнет, как, бывало, в прежние годы, когда детвора опостылеет ей неотвязным криком своим и, охваченная вдруг приливом бешеной злобы, с искаженным лицом, накинется она на них и начнет водворять порядок звонкими, очень больными шлепками, ругаясь самыми жесткими словами.
— Да чего ты, мама!.. Мама!.. Зачем ты говоришь такое…
— А я не вижу? Это кому хошь очки вставляй, а я уж давно дубочки стою… смыслю…
Сознаться бы ей: пусть выругает, побьет, но она — мать, она и отойдет, пожалеет… Но недостало духу правду открыть: завоет мать, причитать начнет, — еще чужой кто услышит, и сраму преждевременно наделают. Перемолчала.
— Ну, как ты там сшивала, так сама и расшивай, сукина дочь! — кричит мать, — сердце ее чует уже недоброе, но все еще не верит себе и пугает угрозой, единым средством материнским. — Я в эти дела не стану входить!., как хошь! сама добыла, сама избывай!..
Видно, надо самой изворачиваться. Одной, с своей подушкой, думу думать, беду оплакивать. А может, Бог чудо пошлет: доброго человека, который знает все… Ведь не одна же она грешила на белом свете, — спокон веку так водится, нет безгрешных. Спросить у старых жалмерок… Они отгуляли свою волю, знают, не осудят… Может быть, помогут чем…
Был последний праздник весны — Троица. Последняя улица весенняя, хороводы, кулачные бои. С праздников в работу вступят люди — покос подошел, — и тогда не до игры, не до улицы…
В эти дни, бывало, до упаду веселилась она, с улицы не шла, до белой зари песни пела в хороводе, слушала речи любовные. А ныне веселье на ум нейдет…
Вон идет гурьбами молодежь за станицу, в степь, где шумит-кипит уже кулачный бой, звенят хороводные песни. Идут казаки, ребятишки, девчата, бабы. Все с веселым гутором и смехом спешат, беззаботные, счастливые, нарядные. А она вот одна, сиротой печальной, стоит у ворот…