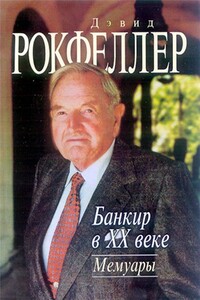Молодой Верди. Рождение оперы | страница 74
И вдруг три года назад маэстро неожиданно приехал в Милан, по внешнему виду выздоровевший… Но он ничего не написал, кроме пустячков, и не пожелал видеть никого из прежних друзей, так страстно жаждавших встречи с ним. Проводил дни в непрерывных и пустых развлечениях в обществе светских львов и праздных иностранцев. А потом уехал в Париж, так и не повидавшись ни с кем из друзей и разочаровав тех, которые так много от него ждали. И в Париже, говорят, опять заболел тяжко и мучительно и опять ничего не пишет.
Нет, Лауро Контарди не хотел думать о больном, стареющем в молчании Россини. Он опять представил его себе таким, каким он был много лет назад, в вечер премьеры «Севильского цирюльника» — молодым, прекрасным и жизнерадостным юношей, по горло занятым своим хлопотливым, сложным и небезопасным делом. Он видел его опять таким, каким он был в тот незабываемый вечер, когда он так горячо и упорно боролся за свою оперу, боролся до самого конца спектакля, до последней ноты певца, до последнего аккорда оркестра. И Лауро подумал, что это непосредственное участие в борьбе за жизнь оперы на сцене должно было всецело и безраздельно захватывать композитора во время премьеры, должно было отвлекать его от всего, кроме самого главного — борьбы за оперу. И эта борьба — реальная и напряженная — поневоле притупляла у композитора болезненное ощущение собственного поражения.
Лауро наконец понял, почему он все время так упорно думал о «Севильском цирюльнике»: он инстинктивно отгонял от себя мысль о другой опере, о другом провале, о безнадежном провале комической оперы Верди «Царство на один день». Провал оперы молодого Верди представлялся ему подлинной катастрофой.
У Лауро сживалось сердце. Он думал о том, что Верди не принимал участия в борьбе за свою оперу на сцене. Не дирижировал оркестром, не играл на чембало. Но традиция была неизменной. Во время трех первых представлений своей оперы композитор должен был сидеть в оркестре между виолончелью и контрабасом. Он сидел в полном бездействии — делать ему было решительно нечего, — разве что иной раз перелистнет ноты контрабасисту. Он сидел неподвижно и лицом к публике. Лицом к публике, которая не знала ни меры, ни удержу в проявлении своих чувств. И все насмешки, и грубые шутки, все дикие выкрики, свист и улюлюканье композитор принимал прямо в лицо. В лицо и в сердце. В сущности, публика казнила композитора. Он был пригвожден к своему месту, как к позорному столбу, и публика могла расстреливать его в упор.