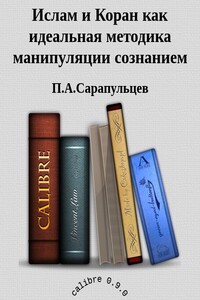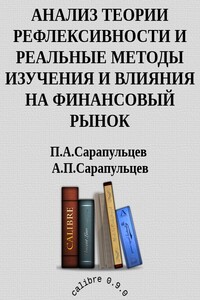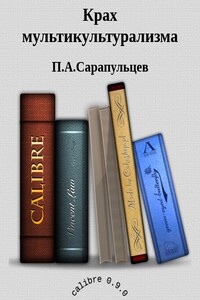Смысл жизни человека и государства | страница 22
Подводя итог рассмотрению составляющих духовной культуры российского крестьянства можно точно сказать, что большинство его духовных ценностей невозможно отнести не только к общечеловеческим ценностям, но даже к национальным ценностям, и потому они явно не могут претендовать на идеал для вновь формирующегося посткоммунистического общества.
Вот почему пытаясь вернуть современное Российское общество к общинному, коммунальному образу жизни, ему в принципе предлагают вернуться к варварству, поскольку “в плане культуроантропологии варвар есть человек, признающий за людей только представителей своего этноса, класса, страты, конфессии, референтной группы… считающий за людей только индивидов, имеющих такую же, как у него, систему ценностей и ведущих такой же, как и он сам, образ существования… считающий культурой материальное или духовное богатство только своей общности или личности… прибегающий скорее и без размышлений к грубой силе, чем к разуму, при контактах с иными культурами, общностями, личностями” (28).
Вполне понятно, что призывать к возвращению подобной морали можно только из-за исторической безграмотности или из-за осознанной или подсознательной ностальгии по ушедшему коммунизму, отменившему капиталистические экономические отношения и сделавшему коммунальные отношения господствующими в обществе. Благо “правила коммунального поведения естественны”, и поэтому “давление на тебя часто не воспринимается и стереотип поведения кажется не навязанным, а естественным”.
Но особенно опасным следствием психологического кризиса, охватившего Россию, явились сознательные или подсознательные поиски героя - вождя, способного вернуть утраченное, и тяга к авторитарному, если не тоталитарному управлении. Как верно подметил писатель Александр Мелихов (29): “В кризисном обществе люди лихорадочно ищут символы и образы, которые бы вернули утраченную уверенность и единство, а поэтому любой сколько-нибудь подходящий носитель уверенности и единства на этой стадии бывает предельно защищён от критики. В нём видят символ, а не реальную личность, и потому рациональный разбор его недостатков не вызывает ничего кроме раздражения: не всё ли равно, из какой ткани изготовлено знамя?..
Страстная потребность в вожде возникает тогда, когда утрачивают авторитет важнейшие обычаи и вследствие этого люди утрачивают уверенность, а важнейшие социальные институты перестают выполнять свои функции. Тогда требуется источник единой воли, который бы преодолевал хаотическую борьбу частных воль. Таким источником может быть только личность - человек на глубинном уровне может доверять лишь человеку, а не абстракциям типа “демократия”, “закон”… Когда эти абстракции действительно начинают работать, а ещё лучше, когда индивид даже не видел их в жалком и уродливом состоянии, - только тогда он утрачивает потребность подкреплять их авторитет чьей-то харизмой”. Действительно, как свидетельствуют “опросы немецких социологов: самыми непопулярными политиками за столетие в России являются Ельцин и Горбачёв, а самыми популярными - Путин… Сталин и Брежнев” (30).