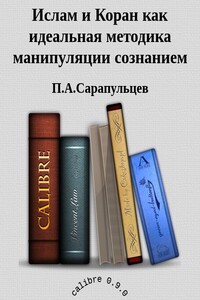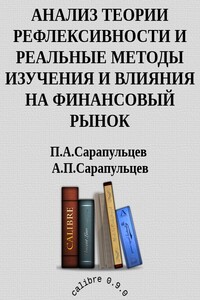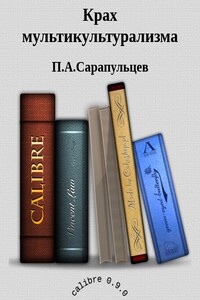Смысл жизни человека и государства | страница 17
Наконец, о бытовом национализме русского населения России, причины которого достаточно чётко раскрывает Олег Цыганков (24): “Даже когда человек или его позиция, либо группа людей являются сильными настолько, что не боятся никакой внешне угрозы, остаётся угроза внутренняя, которой избежать невозможно: она заключается в неизбежности деабсолютизации собственной точки зрения, в “утрате твёрдой почвы под ногами” вследствие признания права легитимности “другого”.
Действительно, пока маргинальная часть русского населения в Советском Союзе чувствовала себя выше других национальностей, что подкреплялось как на официальном уровне (имперский характер учебников истории), так и на уровне бытовой психологии (плохое знание русского языка расценивалось как признак скудоумия нацменов), а также стремлением приезжих к русифицированию - всё было спокойно, но времена изменились и маргиналы почувствовали страх, а отсюда и ненависть.
Определённую роль в активизации национализма в новой России сыграло и возрождение, казалось бы, уже основательно забытой идеи народности, своеобразной богоизбранности русского народа, способного не только находить свой собственный путь развития, но и давать пример остальным народам. При этом речь идёт не столько о культуре и духовности интеллектуальной элиты Российского общества, сколько о духовности дореволюционного крестьянства, составлявшего почти 90% всего Российского народа, поскольку именно её предлагают считать верхом совершенства и моральным примером для всего разумного человечества новоявленные российские славянофилы. Даже такой интеллектуал и эстет, как режиссёр Н.С. Михалков утверждает, что “мы только начинаем понимать сакральный смысл русской провинции. Чем дальше от столицы расположена территория, тем чище и светлее, тем большую надежду она рождает”.
Но в принципе поэтизация “человека почвы” - это далеко не чисто Российское изобретение. Она началась ещё с Жан Жака Руссо, убеждённого, что все современные ему люди деградировали по сравнению с “дикарём” - человеком естественным (24), и продолжается по настоящее время. Хотя ярче всего эта поэтизация отразилась в типологии человека О. Шпенглера (25). В ней он выделяет “человека культуры”, живущего на земле, имеющего отчизну, уважающего традиции церкви и благоговеющего перед преданиями и старшинством, и “человека цивилизации” - паразита, оторвавшегося от земли, у которого ценности исконного уклада жизни заменились на деньги и научную иррелигиозность.