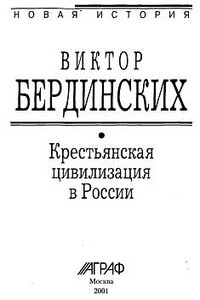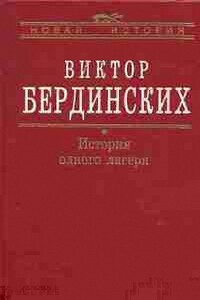Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке | страница 73
Смерти боялись. Голод же был. День прожил и думаешь — «слава Богу», другой — как смерть наступит. А работали — так не сравнишь. Косили по сорок соток, мяли лен: такая тяжелая работа. Лучше не вспоминать. Польт никаких не было. Первое пальто появилось, уже когда стали работать. Сестра говорила, что давай, Тонь, мы потреплем лен, сдадим, так хоть сукна купим, польта сошьем.
Хоть жили и плохо, а воровства раньше меньше было, не то что сейчас. Деды-то делили раньше покосы, помню, так даже дрались палками. У нас одна молодушка (Клавдией звали) пошла в гости к матери, так свекор из-за ссоры с ее отцом утопил ее. Прозвища давали всякие, но иногда так, ради смеха, то «журавенками», то «киселями» называли, особенно детей маленьких.
Церковь раньше очень уважали и боялись ее. Даже попу давали деньги. Когда была засуха, то вызывали попа читать молитву, ходили на земельку с иконами. И правда, после того, как поп прочтет молитву, начинал накрапывать дождик. Ходили в церковь часто. В малых деревнях были часовни, в которых были иконы. Ходили, молились Богу. В них, как и в церквях, тоже вели службу. Божбу часто употребляли в быту. В жизни чего не бывает. Молились часто. Однажды град большой пошел, так мы, маленькие, — быстрей к иконам, и до того маленькие, что головой об пол стучали.
Голода и эпидемий боялись. Сами голодовали. Жизнь-то держалась на волоске. Но народ был крепче. Без штанов ходили, но почти не болели. Даже после родов, дней через восемь-девять выполняли самую тяжелую работу, и ничего не случалось. Сейчас еще живем, и дай Бог!
«Смотрели на меня, как на лишнего едока»
Загоскин Василий Федорович, 1904 год, дер. Самковы
В праздники играли, игры придумывали сами, никто нас не учил. Играли в чиклеш, подшибаш, лото, чиж. Например, в чиж: ставили выбитый кол, на него ставили чиж и подшибали палкой. Играли в шар, его подшибали из лунки палкой. А так детство вспоминать очень тяжело. Земли было у нас на две души. Три узенькие полосочки. Урожаи родились плохие. Первые штаны мне сшили в семь лет, до этого бегал в длинной рубашке. Во двор зимой и летом бегали босиком. Когда подрос, мне сплели лапотцы и дали портяночки — онучки.
В школе я изучил Закон Божий, заповеди, молитвы. Раз в неделю в школу приезжал поп, задавал задания, а потом спрашивал. Мне тяжело давалось церковное чтение. За это поп часто теребил меня за ухо и ставил на коленцы.
Деревня наша была бедная. Только на трех избах крыши были тесовые, а на всех других — соломенные. А у дяди Гриши печка в избе была без дымохода. Топили по-дымному, при открытой двери. Когда печь истопится, дверь закроют, и в избе тепло. До революции многие крестьяне ходили в город на отходнические работы. Надо было все купить: соль, керосин, спички, сахар, топор, вилы, лопату, иголку. А где деньги? Хлеба себе на еду не хватало, не то что на продажу. Были, конечно, побогаче. Те продавали. У них такие бедняки, как мы, занимали хлеб «до свежего» под проценты. Долг отдавали в первую очередь. Не вернешь вовремя — потом не дадут. Так и жили.