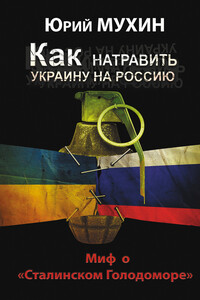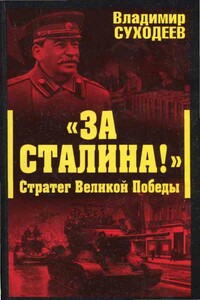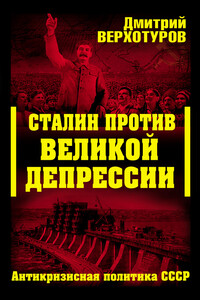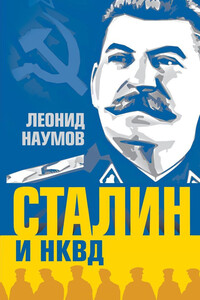«Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова | страница 7
Слабой стороной этой версии является то, что жертвы указанных процессов 1935–1937 гг. — троцкисты, зиновьевцы и правые — никак не попадают под категорию «промышленников, торговцев, бывших дворян и попов, кулаков и подкулачников, бывших белых офицеров и урядников, бывших полицейских и жандармов», указанных как целевая группа в 1933 г. Вовсе не чуждое социальное происхождение инкриминировалось подсудимым на этих процессах. Иными словами, нет объяснения того, почему репрессии затронули и представителей тех социальных групп, которые пострадали от политики советской власти, и руководство ВКП(б).
В рамках концепции тоталитаризма, по сути, работает и такой видный исследователь, как О. Хлевнюк. Он считает, что, «справедливо отвергая апологию террора, многие антисталинисты нередко впадают в другую крайность. Не желая ничего объяснять, они рассматривают любые попытки понять причины репрессий как стремление оправдать их. Но поскольку известные факты террора приходится как-то истолковывать, постольку все сводится к размышлениям о психической неполноценности Сталина, палаческой натуре вождя и его соратников, к общим замечаниям о тоталитарной природе режима» [104, с. 193] и т. п.
Он спорит с публицистическими версиями, в основе которых лежит концепция, объясняющая драматические события особенностями личности тирана Сталина, который был гениальным злодеем. В отечественной историографии эта версия лучше всего изложена Д. Волкогоновым, сформулировавшим тезис о «цезаристском» характере режима личной власти Сталина [46, с. 353]. Действительно, личная власть Сталина укрепилась в ходе «большой чистки». Но при внешней убедительности этой версии она практически игнорирует, что террор имел ясно выраженный социальный аспект — в конце 30-х произошла ротация властной элиты.
В целом исследование Хлевнюка опирается на концепцию тоталитаризма. «Факторы, предопределившие «большой террор», — считает он, — условно можно разделить на две группы. Первая — это общие причины, по которым террор и насилие в более мягких формах были главным оружием государства на протяжении всего советского периода, и особенно в 30–50-е годы. По этому вопросу в литературе существует большое количество соображений, развивающих теорию «перманентной чистки», согласно которой постоянные репрессии были необходимым условием жизнеспособности советского режима, как и всякого другого режима подобного типа» [104, с. 198]. Исследователи отмечают, что репрессии, «подсистема страха» выполняли многочисленные функции. Одна из главных — удержание в повиновении общества, подавление инакомыслия и оппозиционности, укрепление единоличной власти вождя. Кампании против вредителей и «переродившихся» чиновников были также достаточно эффективным методом манипулирования общественным сознанием по принципу: все хорошее — от партии и вождя; все плохое — от врагов и «разложившихся» местных руководителей. Репрессии и насилие можно рассматривать как необходимое условие функционирования советской экономики, основу которой составляло прямое принуждение к труду, дополнявшееся на отдельных этапах широкомасштабной эксплуатацией заключенных. Перечень подобных наблюдений можно продолжать. Каждая из террористических акций, включая массовые репрессии 1937–1938 гг., в той или иной мере выполняла эти общие функции.