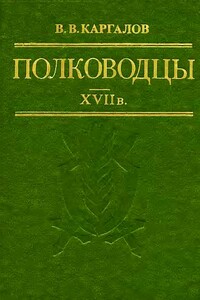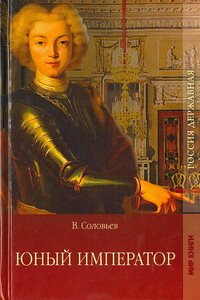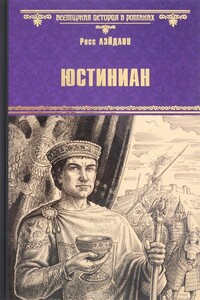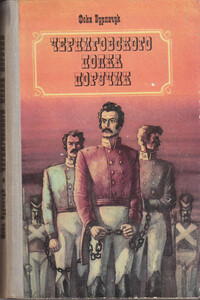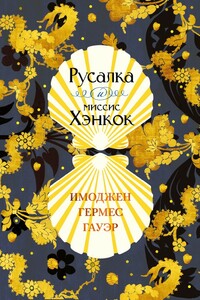Полководцы X-XVI вв. | страница 87
По-разному оценивали военные историки это решение великого князя. Некоторые считали, что таким образом он потерял управление боем. Навряд ли это справедливо. В страшной тесноте и сумятице битвы централизованное управление было практически невозможно. Вступал в дело заранее составленный план, уяснение каждым воеводой своей задачи, инициатива военачальников. Решение же князя сражаться в доспехах простого воина обеспечивало многие преимущества. Это был пример, воодушевляющий ратников. Растворившись среди войска, великий князь становился как бы бессмертным: последний сражающийся ратник мог оказаться князем. А ведь гибель предводителя войска обычно подрывала боевой дух, ордынцы старались прежде всего вывести из строя русских князей. И действительно, им удалось убить Михаила Бренка в одеянии великого князя, но паники это не вызвало. Русские воины знали, что настоящий великий князь среди них, в боевом строю.
Между тем ордынцы начали наступление. Вперед вынеслись массы конных лучников, но были отброшены сторожевым полком. Начали сближаться главные силы. «И выступила сила татарская на холм, – повествует летописец, – и пошла с холма. Также и христианская сила пошла с холма и стала на поле чистом, на месте твердом. И страшно было видеть две силы великие, съезжающиеся на скорую смерть. Татарская сила была черная, а русая сила в светлых доспехах, как река льющаяся, как море колеблющееся, и солнце светло сияло на ней, лучи испуская.
Ордынцы наступали в обычном для степняков порядке сильные конные крылья, состоящие из отборных войск, резервные тумены позади Красного Холма, где находилась ставка Мамая. Но слишком узким оказалось Куликово поле для фланговых ударов, и Мамаю пришлось изменить план боя. Он резко усилил центр, выдвинув туда тяжелую генуэзскую пехоту. Густая фаланга генуэзцу медленно двинулась на русский строй. «И гудела земля горы и холмы тряслись от множества воинов бесчисленных», – добавлял летописец.
Однако схватке главных сил предшествовал еще один яркий эпизод – поединок русского витязя инока Александра Пересвета с ордынским богатырем Темир-мурзой. Церковники постарались придать подвигу «изящного послушника инока Пересвета» чисто религиозную окраску. Он будто бы был «вооружен схимой», отличался «святостью», и силу ему дал господь бог. На самом деле Александр Пересвет был профессиональным воином-дружинником, хотя и служил духовному феодалу, игумену Троицко-Сергиевого монастыря. Летописец специально отмечал его воинское мастерство и физическую силу: «сей Пересвет, любечанин родом, когда в миру был, славный богатырь был, великую силу и крепость имел, величеством же и широтою всех превзошел, и умел был к воинскому делу и наряду».