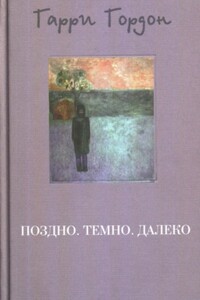Пастух своих коров | страница 63
— Ты что, Борисыч! — недоверчиво заулыбался Савка. — Какая я, на хер, девочка.
— Берите, берите, — посоветовал Серафим Серафимович, — все мы девочки перед Творцом.
— Дай тогда и икону. Кому ж я буду читать.
Петр Борисович снял с полки картонного Николу.
— Поставишь с восточной стороны. У тебя это между дверью и печкой. Свечку зажги и читай. Утром и вечером.
— А днем нельзя? Утром — дойка, вечером — дойка.
— А ты перед сном.
— Кабы я знал, когда упаду.
— Савва, не капризничайте, — одернул Серафим Серафимович, — дело серьезное.
— Да я ничего. Спасибо. Борисыч, завари чаю. А что, стишки больше не читаете? Надоело? И правильно. А то, как ни придешь, — ду-ду, ду-ду…
Темнело. Дождь не прекращался, только поменял тембр и стал ритмичнее: ду-ду, ду-ду… Петр Борисович зажег свечку. Глубокие тени задвигались по стенам, взбирались, ломаясь, на потолок, клеенка на столе затеплилась чистой скатертью.
— Нет, стишки не надоели, — ответил Серафим Серафимович. — Просто наш автор исписался. А жаль — при свечах… стати, Петр Борисович, отчего вы не читали стихи о любви?
— А я их и не писал. Были попытки…
— Совершенно напрасно, ведь поэзия начиналась с восхищения женщиной.
— Может, и начиналась. А потом что? Изредка, да, восхищение:
«Я помню чудное мгновенье…»
«Дыша духами и туманами…»
Так сразу и не вспомнишь. Иногда — страсть:
«Гляжу, как безумный на черную шаль…».
«Я свой век загубил за девицу-красу…»
В основном же — выяснение отношений:
«Я не унижусь пред тобой…»,
«Я не люблю иронии твоей…»
Или:
Доходит и до прямой угрозы:
— Все-таки в вас погиб бухгалтер, — проворчал Серафим Серафимович. — Может, вспомните какую-нибудь попытку?
— Сейчас:
— Еще…
— Надо вспомнить. А, вот:
— Интересно. Вы ухитрились любовные функции переложить то на снег, то на бессонницу. А сами вроде бы в белом фраке. До чего же вы ленивы…