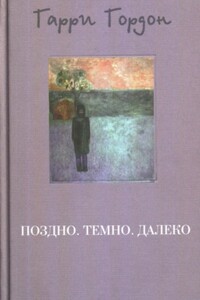Пастух своих коров | страница 61
— Вы думаете? — хмыкнул Серафим Серафимович. — Есть еще что-нибудь?
— Последнее! — торжественно объявил Петр Борисович. — Добьем?
— Я вижу, действительно, ваш конфидент — Песик. И еще, как там у вас, — собабки. Так слышится, по крайней мере, когда отвратительно рифмуешь. И почему турок пьет зеленый чай? И откуда у турок аксакалы? Похоже, что вы объелись белены. Впрочем, бывает такое состояние души, когда хочется, рыча и курлыча, плюнуть с высоты на темный лес. И что, на этой высокой ноте закончилось ваше поэтическое творчество?
— Тетрадка, по крайней мере.
Поначалу показалось, что это Савка барабанит в окно среди ночи, негромко и нервно. Петр Борисович прислушался. Дребезжали стекла в пазах, что-то с размаху сыпалось и стучало.
— Обыкновенная декабрьская гроза, — голос Серафима Серафимовича прозвучал во тьме, как приговор, — вы слышали гром?
Утром их разбудил громкий шорох, перешедший в гулкий тупой удар. Несколько тонн напитавшегося влагой снега сползло с крыши и завалило окно. Мерцающая полутьма озарила комнату. Теплые блики из печки подыгрывали жемчужным зайчикам на посуде. Представился почему-то Пушкин в Михайловском, леса, недавно столь густые, и берег, милый…
— Это великолепие следует разгрести как можно скорее, — тоном, опасающимся возражения, сказал Серафим Серафимович.
— Что вы, видите, даже дуть перестало.
Серафим Серафимович сосредоточенно сворачивал козью ножку.
— Между прочим, заметил он, — на зиму надо вставлять вторые рамы. А так — еще напор, и два миллиметра хрупкого благополучия полетят, как выражается наш друг Савва, на хрен.
— На хер, — вяло поправил Петр Борисович, натягивая сапоги.
Дождь прекратился, низкое небо неслось над щербатым настом, отливающим антарктической тоской. Никогда, никогда не придет сюда мифический джип с жирными фарами, никогда…
Петр Борисович оглянулся на реку и замер. Река сверкала майской синевой, темная рябь пробегала по отражению дальнего берега. Снег превратился в пюре и утонул в дождевой воде.