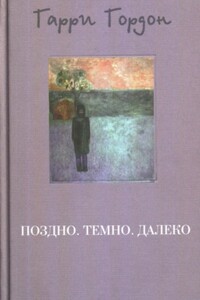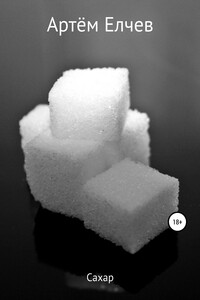Пастух своих коров | страница 19
Яркое и бесстрастное пространство звенело мерзлой бронзой, сгустилось до пределов понимания. Как возможны эти наслоения — не противоположного и равного, добра и зла, например, жизни и смерти, а бледные помеси торжественного и напыщенного, веселого и не смешного, страшного и неприятного, слабого и беспомощного…
Как будто мир творился коллективно, будто порядок жизни решался не Всевышним, а большинством голосов на колхозном собрании — сторожем, дояркой и провокатором, и никто ни за что не отвечает.
Колька очнулся и встал. Пес, высунув язык, смотрел на него с обожанием. «Туман, вот ты меня понял», — пробормотал Колька и впрягся в санки.
Луг зарастал уже не только травами — торчали местами тонкие ольшины, перистые прутики рябин, темные букеты ирги, и другие, пока непонятные кустики. А однажды весной, когда полегли под талым снегом прошлогодние травы, высвободились неожиданно, как вставшее стадо, молодые сосны, темные, круглые, с двумя ярусами веток и непомерно высокой верхушкой. Они располагались по прямой, как посаженные, вдоль бровок и оплывших межей. Рядом с соснами возникали розовые глянцевые стебли берез с листьями от земли, казалось, что пробивается сквозь почву вершина большого подземного дерева. Лет через десять ухоженное некогда ильнище превратится в смешанный лес.
Колька обрастал хозяйством медленно и терпеливо, и когда в конце перестройки совхоз назвали Закрытым акционерным обществом, он ухмыльнулся, принес два ваучера, и потребовал земли. Было не до него, начальство делило имущество, и чудаку легко выделили три гектара обидища — кочкарника между домом и болотом. На полугодовую зарплату Колька взял серую кобылу, случайно оказавшуюся беременной. Андрей, бригадир, потребовал было жеребенка назад в Общество, но Колька в ответ только ощерился, показав пропадающие уже знаменитые зубы.
Землю дали в аренду на сорок девять лет, это была юридическая метафора, но Колька был все равно недоволен ограничением своего права и свободы.
«Меня посадили на сорок девять лет», — пошутил было он, но никто не расслышал, юмор не приживался на кислой почве, меж хвощей и папоротников, и требовал если не полива, то просто ухода от непрерывной жизни, как после алкоголя. Ухаживать за юмором было некогда, и Колька терпеливо вырубал лопатой лопухи обыкновенной действительности, прущие на крыльцо.
Он был единственным из работников совхоза, владеющим землей, и его обозвали «хермером». «Какой я фермер, — печально отмахивался Колька, — я пастух своих коров».