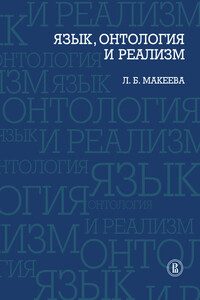Философия Х. Патнэма | страница 21
На первый взгляд, первое решение может показаться более простым и естественным. Однако Фреге и Рассел отказались от этого решения (хотя именно его предлагал Милль), поскольку они сочли его неудовлетворительным при анализе семантического поведения имен в более сложных контекстах.
Напомним, что Фреге ввел понятие смысла как второго компонента значения в результате анализа проблемы тождественности имен. Рассматривая такие предложения тождества, как "Утренняя звезда есть Утренняя звезда" и "Утренняя звезда есть Вечерняя звезда", Фреге установил, что они имеют разное информационное содержание, хотя и выражают самотождественность одного и того же объекта. Если предположить, что каждое из входящих в эти предложения тождества имен вводит лишь обозначаемый им объект, то этому различию в информационном содержании нельзя дать никакого объяснения. Поэтому Фреге сделал вывод, что каждое имя связано с определенным способом представления (репрезентации) обозначаемого, который он и назвал смыслом. Именно смысл, согласно Фреге, является семантическим вкладом имени в высказывание и именно смысл объясняет различие между такими предложениями тождества, как "Утренняя звезда есть Утренняя звезда" и "Утренняя звезда есть Вечерняя звезда". Необходимость двухкомпонентного значения вытекала для Фреге и из невозможности подстановки salva veritate для имен одного и того же объекта в неэкстенсиональных контекстах (например, в контекстах косвенной речи). Заменив, к примеру, в истинном высказывании "Петр считает, что Утренняя звезда – это Венера" имя "Утренняя звезда" на имя "Вечерняя звезда", мы получим высказывание ("Петр считает, что Вечерняя звезда – это Венера"), которое может быть и ложным, поскольку Петр может не знать о тождественности этих имен. Разрешить эту трудность возможно, согласно Фреге, только если допустить, что разные имена являются разными способами представления объекта, то есть имеют разные смыслы.
Что касается Рассела, то он создал свою теорию дескрипций, трактующую имена собственные как сокращенные дескрипции, для разрешения так называемых парадоксов теории именования [31]. Эти парадоксы возникают при анализе единичных отрицательных высказываний существования ("Зевс не существует"), высказываний с пустыми именами ("Нынешний король Франции лыс") и при анализе употребления имен в неэкстенсиональных контекстах («Георг IV хотел знать, является ли Вальтер Скотт автором "Веверлея"»). Как и Фреге, Рассел считал, что единственный путь разрешить эти парадоксы – это представить имя собственное как сокращенную форму для связываемой с этим именем дескрипции.