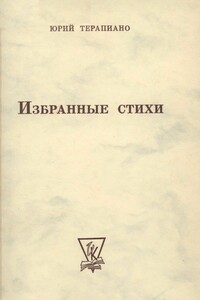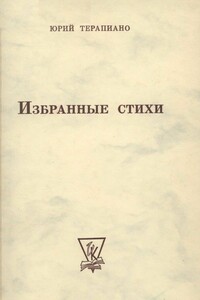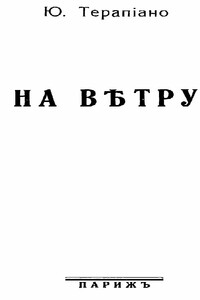Встречи | страница 77
В последнем письме, написанном жене перед самым расстрелом, он пишет: «Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать Вас, я знал уже, что это будет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть, как некое новое приключение, с известным сожалением, но без раскаяния и страха. Я так уже утвердился на этом пути смерти, что возвращение к жизни мне представляется очень трудным, пожалуй, даже невозможным.
Моя дорогая, думайте обо мне, как о живом, а не как о мертвом. Я не боюсь за Вас. Наступит день, когда Вы более не будете нуждаться во мне: ни в моих письмах, ни в воспоминании обо мне. В этот день Вы соединитесь со мной в вечности, в подлинной любви.
До этого дня мое духовное присутствие, единственно подлинно реальное, будет всегда с Вами неразлучно…».
Мать Мария
Мать Мария, в миру — поэтесса Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко, по второму мужу — Скобцова, конечно не могла иметь прямого отношения к жизни литературного Парижа в период своего монашества, но косвенно, особенно в последние годы перед войной и во время войны она оказалась и в литературной среде «своею». Организованное при ее живейшем содействии «Православное Дело», где постоянно читались лекции на религиозно-философские, а порой — и на литературные темы, постоянная готовность матери Марии прийти кому-либо на помощь, наконец, ее живой ум, ее широкое понимание христианства и того, чем в настоящее время должны заниматься христиане, постепенно привлекли к ней симпатии многих поэтов и писателей, которые стали постоянно бывать на собраниях «Православного Дела», и просто у матери Марии. С другой стороны, организованное во второй половине тридцатых годов И. И. Фондаминским, единомышленником и другом матери Марии, общество «Круг», в которое входили с одной стороны представители молодой зарубежной литературы, а с другой — философы и религиозные мыслители, тоже способствовало сближению с матерью Марией, которая могла бывать на этих закрытых собраниях на дому у И. И. Фондаминского.
Два отношения, два различных мироощущения, два совершенно различных подхода к духовным вопросам сталкивались порой на этих собраниях. Не раз некоторые поэты и писатели остро полемизировали с профессором Г. П. Федотовым, с Бердяевым, с матерью Марией и с самим Фондаминским, находя их отношение к «двухтысячелетнему опыту Церкви, который дополняет и развивает начала, положенные в Евангелии», несколько схоластичным и противопоставляли этому «опыту» живой дух первых веков христианства; поэты были на стороне свободного веяния Духа и «пророческого начала».