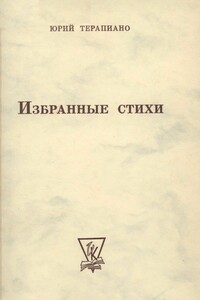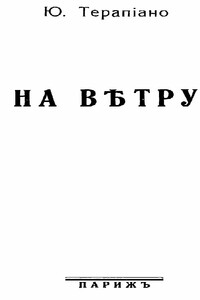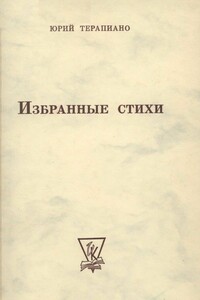Встречи | страница 17
Меня особенно поразила одна идея, высказанная в конце книги.
Основная мысль этой главы (стр. 416, § VII) состоит в том, что благодаря мистериям, унаследованным древнейшими народами от Атлантиды, т. е. благодаря «религиям страдающих, умирающих и воскресающих богов», языческий мир был лучше подготовлен к пришествию Христа, чем евреи.
Другими словами, «тень Грядущего» яснее и полнее возвещалась языческими мистериями, чем библейскими пророками.
«Огненная» постановка вопроса… Если дать дальнейшее направление этой идее, огонь Мережковского мог бы оказаться страшнее предполагавшегося Розановского огня.
«Атлантида» — трудная книга, трудно ее читать.
Но в ней-то Мережковский, кажется, что-то действительно напророчил: — возврат к индо-европейскому источнику представлений о Боге, восстание «Афин» на «Иерусалим», (— уже случалось мне упоминать о распространении индуизма в послевоенном мире), а также — о войне.
Об антиномии «война или мир», в свое время, по Платону, решившей судьбу Атлантической мировой цивилизации, Мережковский написал очень значительные главы в своей «Атлантиде».
Вопреки репутации, установившейся за ним еще в России, Мережковский не был «Богоискателем», — Бог всегда присутствовал в его мыслях.
Но он мучительно и напряженно искал Христа — вместе со всем языческим миром, вместе со всеми столь дорогими ему мистериями, — но искал по способу эллинскому — хотел Его понять и познать, вместо того, чтобы, как Савл на пути в Дамаск, отказаться от себя и преобразиться.
Оттого в книгах Мережковского такая напряженность и внутренняя неразрешенность, — в них всё время буря и нет тишины.
Но сама тема Мережковского и его взволнованность — не заурядны.
Современники подошли к нему с меркой «исторического романиста», «литературного критика» и «человека, претендующего на учительство», — невзлюбили его и остались глухи к его основной теме.
Не стану предсказывать, что ждет в будущем книги Мережковского — это вопрос праздный.
Но, может быть, когда-нибудь, на каком-то повороте извилистой линии русской духовно-религиозной мысли, «бутылка, брошенная в океан», как сказал Мережковский в предисловии к «Атлантиде», кем-либо будет найдена.
З. Н. Гиппиус
Поэзия Гиппиус остра, индивидуальна, интеллектуальна. В ней много чувства — сконцентрированного, сжатого, скрытого под броней кажущейся холодности, много иронии, иногда даже с оттенком вызова.
«Гиппиусовские» соединения прилагательных, ее декадентские сюжеты — змеи, уродцы, колдования, в сочетании с отвлеченными идеями, порой — гражданские мотивы (например, известное ее стихотворение: «Звени, звени, кольцо кандальное»), большая волевая устремленность, отточенность внешней формы — характерны для поэзии Гиппиус в России.