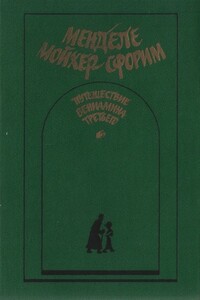Фишка хромой | страница 75
— А почему же она… жена твоя то есть, путалась с рыжим? — не сдержался и спросил Алтер.
— Казалось бы, вы совершенно правы! — ответил Фишка. — Но еще будучи в глупской бане, я научился понимать, что такие вопросы нечего задавать. Где еще так честят всех и каждого, как в бане? И кто? Именно те, которым, право, следовало бы помалкивать. Человек, который никогда слова правды не скажет, смеется над другим и заявляет, что тот, мол, лгун. Плут, которому и гроша доверить нельзя, обвиняет другого в воровстве. Скряга, готовый за полушку глаза себе выколоть, хохочет, указывая на другого: вот, дескать, какая свинья! Злой, жестокосердый человек называет другого извергом. Честолюбец, на зсе готовый ради малейшей почести, злословит о другом: тот, видите ли, жаждет славы…
Извозчик Берл в разговоре с нами, бывало, хватался за голову:
— Ох, ох! Не пойму, как у человека язык поворачивается! Как можно осуждать другого, когда хорошо знаешь про себя, что сам ты вор, лгун, свинья, мерзавец и все что угодно?!
— Эх ты, умная голова! — отвечал ему в таких случаях сторож Ицик. — В том-тО и беда, что в своем глазу человек бревна не замечает, а сучок в глазу у другого кажется ему бревном!
А Шмерл, один из бездельников, ютившихся в бане, замечал с усмешкой, зажав бороду в кулак:
— Позвольте, реб Берл! Позвольте, реб Ицик! Оба вы ошибаетесь! Правда, как я понимаю, попросту заключается в том, что каждый про себя думает: мне можно, а другому нельзя.
— Правильно, Шмерл! — воскликнул я, подскочив на месте, и тут же задумался.
Слова Шмерла поддали жару бесу, сидящему в каждом из нас, грешных. Он проснулся и во мне со злобным смешком и стал терзать мое сердце, мучить сознание, будоражить мысли и выкапывать старые истории, залежавшиеся в памяти. Всполошились будто из-под земли выросшие образы. И бес, указывая на них, с кривой ухмылкой произносит моими устами:
— Вот они, вся эта почтенная публика! Им-то все можно, все дозволено…
Этой публики полно повсюду — и в торговле, и в городских ведомствах, и в различных обществах, и в религиозных братствах, и во всем нашем быту. Немало тут и женщин — молодых и старых, всех пород и времен, старосветских баб и молодых дамочек… «Добро пожаловать, уважаемые! — говорю я про себя. — Господь свидетель, что я рад бы в глаза вас не видать и имени вашего никогда больше не произносить. До того вы мне опротивели. Но что поделаешь? Уж раз принесла вас нелегкая, я не могу отпустить вас ни с чем. Придется, в угоду дьяволу, о каждом из вас хоть что-нибудь да рассказать».