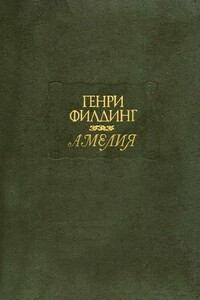Книга жалоб | страница 47
— Разве за это не заплачено?
Я выдержал его стопудовую паузу, дождавшись, когда он сам продолжил:
— Ладно! — сказал он полушепотом. — Я никому не давал спуску, а знаешь почему? Чтобы ты мог сегодня от этого воротить нос! Революция — не дискуссионный клуб. Она жестока... Представь себе, нам приходилось и сажать, и убивать! Это было ужасно!
Его прорвало, и я вдруг услышал тот прежний, уже забытый саркастический тон, о котором мне рассказывали очевидцы, слышавшие его в своё время, вернее сказать, на себе испытавшие припадки ораторской истерии Великого инквизитора (Голос его, говорят, тогда переходил из баса в фальцет), который теперь отлучённый, лишённый всех чинов и званий, сидит рядом со мной в лавке, как обычный беззащитный смертный, без ризы былого могущества. И именно это вызывало во мне сильнейшее раздражение, мешавшее быть терпимым и всепрощающим, милостивым к поверженному, — он как наказание воспринимал тот факт, что после всего оказался одним из нас с улицы, что больше не находился там, на трибуне, перед которой пионеры стоят, вытянувшись по стойке «смирно», всё то время, пока он выступает перед толпой, массами, народом столько, сколько считает нужным, не задумываясь над тем, интересно ли, умно ли и нужно ли кому-нибудь бесконечное патетическое пережёвывание одних и тех же общих мест... Он явно воспринимает это как наказание! Стало быть, и я, и все мне подобные несём такую кару всю жизнь, сами того не сознавая! Быть ровней нам — для него, ясное дело, самое несправедливое из всех возможных наказаний, в знак протеста против которого он даже написал книжищу в шестьсот страниц! O Господи!
— Должен вам заметить, — сказал я, — что из-за ваших частых метаморфоз кое-кто лишился и головы, без всякой, кстати, вины. Вы превысили пределы необходимой обороны — не все были врагами. Чем вы за это заплатили?
Выражение лица его изменилось, он посмотрел на меня, как отец иногда смотрит на сына, завидуя его наивности и в то же время боясь за него, ещё не узнавшего тёмных сторон жизни.
— Чем? — переспросил он как бы про себя.— Чем?
Он стал рыться в глубокой кожаной сумке, лежавшей у его ног, набитой папками, газетами и брошюрами. Извлёк из неё книгу в матерчатом переплете, раскрыл и ткнул пальцем в какую-то фотографию. На фотографии было человек десять мужчин и женщин за длинным столом, задрапированным какой то тканью (по всей видимости, зеленым сукном); они стояли и, улыбаясь, смотрели на что-то, явно радовавшее их взоры. Это была одна из тех первых послевоенных фотографий, которые при увеличении для печати словно подергиваются мелкой рябью; чувствовалось, что этих людей что-то крепко связывает, что это одна компания, которая только что выбралась из благополучно закончившейся передряги, — молодые, худощавые, с туго натянутой кожей на выступающих скулах; хотя они прошли войну (об этом говорили гимнастерки, из-под которых были дерзко выпущены воротники рубашек, остроугольные по тогдашней моде), лица их сохранили какую-то детскую невинность, особенно лица мужчин; женщины были очень молоды, ремни перетягивали их упругие, соблазнительные груди; несмотря на строгие прически — волосы коротко подстрижены или собраны в пучок на затылке— трудно было отделаться от впечатления какой-то скрытой эротики; их женственность выпирала из-под военной формы, это были вооружённые властительницы жизни и смерти, а может быть — кто знает? — и любви; амазонки, одержавшие победу над какими-то другими мужчинами (вспомнилась песенка времен войны: «Ай да Анка-партизанка, ей гордится весь отряд! Ай да Анка, ай да Анка — ей сам чёрт не брат!»). Так они стояли и улыбались истории, которую делали, которую переиграли и теперь крепко держали в своих молодых руках, опалённых порохом, как дети в книге «Тимпетил — город без родителей», запечатлённые объективом какой-то трофейной «лейки», снятой с убитого немецкого офицера...