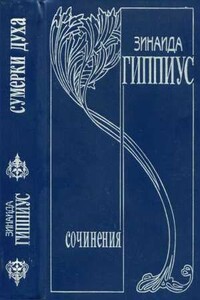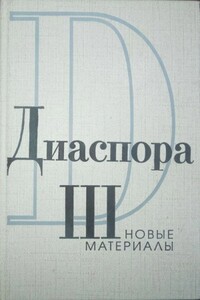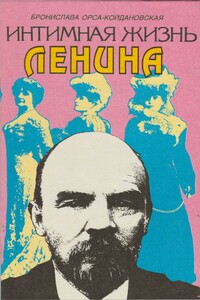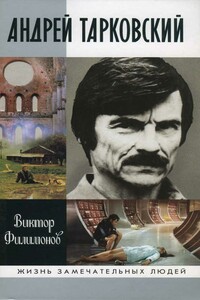Живые лица | страница 33
Тут уже не электрические чайники редакции «Весов» style moderne, а самая старинная Москва. В калитку стучат кольцом; потом пробираются по двору, по тропинке меж сугробами; деревянная темная лесенка с обмерзшими, скользкими ступенями. Внутри маленькие комнатки жарко натоплены, но с полу дует. Стиль и книги редактора «Весов» — и рядом какие-то салфеточки вязаные и кисейные занавесочки.
Насмешливое остроумие, изредка граничащее со сплетничеством, никогда не покидало Брюсова; но у себя он был особенно жив, мил, по-московски радушен. Вообще москвичом он оставался, несмотря на весь «европеизм» — и даже некоторую «космополитическую» позу.
Известный московский «Кружок»,[89] душой которого (да и председателем) долгое время был Брюсов, — в 01–02 гг., кажется, еще не вполне расцвел. Мережковский, когда мы приезжали в Москву, читал лекции[90] не в Кружке, а в какой-то университетской аудитории.
Вот ужин, после одной из этих лекций, в отдельной зале «Славянского базара», за большим столом. Присутствующие — профессора, солидные, седоватые, бородатые; но между ними и тонкий молодой Брюсов.
Мне особенно ясно запомнился профессор Н. Бугаев, математик, лысый и приятный.[91] Он, к общему удивлению, весь вечер говорил… о чертях. Рассказывал, с хохотом, как черт его на извозчике возил, и другие случаи из своей жизни, где чертовское присутствие обнаруживалось с несомненностью.
Потом Брюсов читал стихи. Поднялся из-за стола и начал высоким тенорком своим, забирая все выше:
Брюсов читает порывисто, с коротким дыханьем. Высокий голос его, когда переходит в поющие вскрики, например, в конце этого же стихотворения —
Естественно, в силу единой владеющей им страсти Брюсов никакого искусства не любил и любить не мог. Но если он «считал нужным» признавать старых художников, заниматься ими, даже «благоговеть» перед ними, — то всех своих современников, писателей (равно и не писателей, впрочем) он, уже без различия, совершенно и абсолютно презирал. Однако природная сметка позволила ему выработать в отношениях с людьми особую гибкость, удивительную тонкость. Даже неглупый человек выносил из общения с Брюсовым, из беседы с ним убеждение, что действительно Брюсов всех презирает (и поделом!), всех — кроме него. Это ведь своего рода лесть, и особенно изысканная, бранить с кем-нибудь всех других. А Брюсов даже никогда и не «бранился»: он только чуть-чуть, прикрыто и понятно, несколькими снисходительно-злыми словами отшвыривал того, о ком говорил. А тот, с кем он говорил, незаметно польщенный брюсовским «доверием», уже начинал чувствовать себя его сообщником.