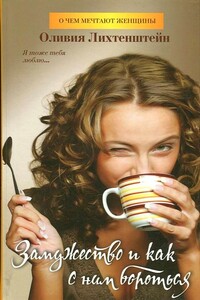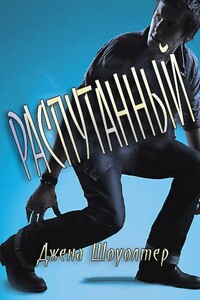Охотница | страница 57
До чего здесь, черт возьми, ужасно, все абы как, внезапно замечает она. Ни одной милой мне вещи, разрозненное разномастное старье, так и стоит с тех пор, как папа помог мне переехать сюда.
У Юнаса была одна особенность, на которую Жанетт давно обратила внимание. Он всегда как бы у нее отпрашивался. Она не против, если он уедет? А зачем вообще задавать такие вопросы?
Поначалу ей не казалось, что он чересчур много ездит. Она ведь и сама часто работала в неурочное время, да еще у нее Йенни. Ей, матери-одиночке, надо спасибо говорить за любые знаки внимания. И ведь Юнас был внимателен и неизменно добавлял: как жаль, что ему надо уехать.
Когда Юнас бывал в Стокгольме и ему нужно было встретиться с другом или даже по делу, он обязательно должен был услышать, что она совсем не расстраивается по этому поводу. И, собравшись кому-нибудь звонить, он непременно докладывал:
– Мне надо позвонить, но это ненадолго.
Юнас всегда просил дать ему немного времени, будто она распорядительница.
Сначала Жанетт нравилось, что он такой предупредительный. Хотя и странноватый. У нее ведь и у самой бывали встречи и телефонные разговоры, но она не считала, что за это нужно извиняться. Ну а в последнее время его вежливость стала раздражать.
Он словно по капельке вливал в мое ухо тоску по нему. Как яд. Исподволь напоминал мне, что он необходим, что без него нельзя обойтись и мне должно быть жаль, что на пять минут он отвлечется от моей персоны, чтобы поговорить с кем-то по телефону. Прямо-таки желал, чтобы это меня огорчало.
Пробыв месяц с лишним в Копенгагене, он приезжает с цветами, и мы, само собой, готовим ужин. А через неделю ему опять ехать, теперь в Мальмë. Следовательно, Йенни я снова везу к маме, а потом надо приготовить прекрасный ужин. И тебе плевать, Юнас, черт побери, что мне рано вставать на работу, мне лучше было бы выпить чашку чаю и пойти спать.
Краски, Тереза, ты выбрала краски. Они смешиваются где-то там, внутри тебя, во мраке, который тебе неведом. Они подобны ощущениям, которые, как только пытаешься их выразить, становятся плоскими, будто пустые пакеты, или вообще теряют свою истинную суть.
Ты знаешь правду, дорогая моя. Это как та дверь, которая мнилась тебе, когда ты была маленькой. Та, за семью завесами. Ты как-то вечером лежала в постели и представляла себе эту дверь. И храбро пыталась смотреть прямо на нее, но, чем ближе к ней мысленно подходила, чем меньше над ней оставалось сорванных тобой завес, тем острее становился страх. Тем больше ты понимала: совсем приблизиться – невозможно! Ужас неодолимой пустоты, которой нет конца.