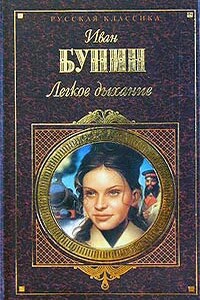Хутор | страница 29
…Возле дома уже стояла “неотложка”. В комнате молодая врачиха с хрустом разламывала ампулу…
После укола сын уснул. В больницу я его не отдала. Я попросила оставить мне несколько ампул, флаконов и шприц, сказав, что буду все делать сама. В отличие от питерских гренадерш “неотложки”, штурмующих пациента своим боевитым благожелательным хамством, остзейская медичка не только не настаивала, но ретировалась без боя. “Это ваше дело”, – нейтрально заключила она. Я подписала какую-то бумажку о личной ответственности… Она, в свою очередь, выписала мне рецепты на новые ампулы-флаконы… И уехала.
Она уехала, а мы с сыном остались. И тут до меня дошло, что лекарств-то хватит всего на сутки. Затем, с рецептами, мне надо ехать в город, отстоящий от хутора на расстоянии восьмидесяти километров. С этой мыслью, пока сын спал (мухи, перепуганные непонятной фармакологической амброзией, были рады убраться), я выскочила из дома и понеслась ко второму коттеджу.
Я представления не имела, кто в нем живет. Я только понимала, что в нем живут городские, и значит, надежда на помощь есть. Я хотела попросить посидеть с моим ребенком, пока я завтра с утра съезжу в город.
Было уже совсем темно. Когда открылся золотой проем двери, меня резко ослепил свет, и я даже не смогла разглядеть, кто стоит на пороге. Я только услышала голос. В ответ на мою просьбу голос сказал: “Конечно, я вам помогу. И прошу помочь также мне: не согласились бы вы стать моей натурщицей?”
Типичные письменные приемы, передающие эстонский акцент, опускаю.
И началась совсем другая жизнь.
Мой сын поправился.
Мне повезло попасть к таллиннским “космополитам”: хозяевами коттеджа оказались знаменитый Художник и его жена. Странно, что прежде я их нигде на хуторе не видала.
Я стала ходить к Художнику на сеансы.
Во время сеансов я спала. С открытыми глазами. В положении сидя. В позиции стоя. Я спала – и не верила в возможность отдыха. Я была уверена, что мне это снится. Я спала – и никак не могла отоспаться. Я спала, как бревно, честно пытаясь сохранять на своем лице не только осмысленность, но и “яркую эмоциональную оживленность”. По-видимому, мне это удавалось. Во время сеансов жена Художника нянчила моего сына…
Художник именовал мои занятия “работой”. Он робко просил меня не загорать, “чтобы не менялись тональные оттенки кожи”. Я охотно соглашалась, не посвящая его в детали своего быта. Перерывами, сидя в плетеных креслах, мы пили кофе из хрупких фарфоровых чашечек. Кофейный столик, как всегда, сервировала жена Художника: бисквит, конфеты в изящной корзиночке, свежие фрукты и ягоды, нарядная скатерть, цветы…