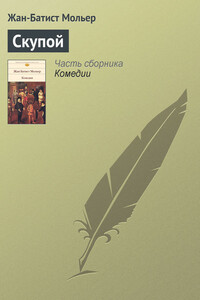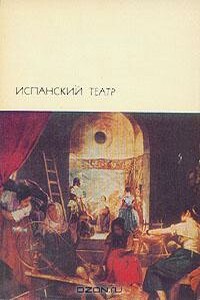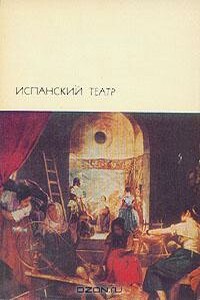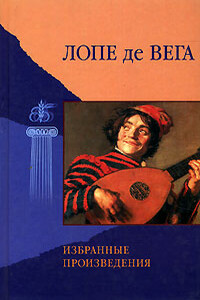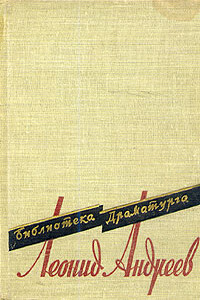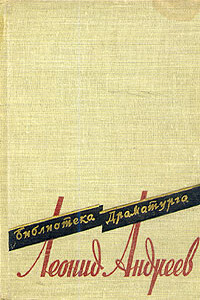Испанский театр | страница 9
«Новое руководство к сочинению комедий в наше время», которое Лопе де Вега написал через семь лет после этого девиза, как раз и посвящено обоснованию новых принципов. Суть его сводится к нескольким основным положениям. Прежде всего надо отказаться от преклонения перед авторитетом Аристотеля. Аристотель был прав для своего времени. Применять выведенные им законы сегодня — нелепо. Законодателем должен быть простой люд (то есть основной зритель). Необходимы новые законы, соответствующие важнейшему из них: доставлять наслаждение читателю, зрителю. К слову сказать, через много лет другой гениальный драматург, Мольер, почти дословно воспроизведет слова Лопе де Вега. В «Критике «Урока женам» Мольер скажет: «На мой взгляд, самое важное правило — нравиться. Пьеса, которая достигла этой цели, — хорошая пьеса. Вся публика не может ошибаться… ибо если пьесы, написанные по всем правилам, никому не нравятся, а нравятся именно такие, которые написаны не по правилам, значит, эти правила неладно составлены». Замечательно, что и величайший трагик Расин тоже с полным сочувствием повторяет эти слова! Значит, время приспело, но первым их произносит Лопе де Вега.
Останавливаясь на пресловутых трех единствах, законе, выведенном учеными теоретиками Возрождения из Аристотеля, Лопе оставляет как безусловное только одно: единство действия. Несколько забегая вперед, заметим, что сам Лопе и, особенно, его ученики и последователи довели этот закон до такого абсолюта, что он порой превращался в обузу не меньшую, чем единства места и времени у классицистов. Что касается двух других единств, то тут испанские драматурги действительно поступали с полной свободой. Хотя во многих комедиях единство места, в сущности, сохранялось, что вызывалось частично техникой сцены, частично — чрезмерным соблюдением единства действия, то есть предельным его концентрированием (пример — «Дама-невидимка» Кальдерона). Вообще надо сказать, что как во времена Лопе де Вега, так и в полемике романтиков с классицистами вопрос о «законе трех единств» приобретал чуть ли не первостепенное значение в теоретических спорах, но практически с ним считались только исходя из конкретных нужд того или другого произведения (неудачные образцы «полемической» драматургии, вроде «Кромвеля» В. Гюго, в данном случае принимать в расчет не следует).