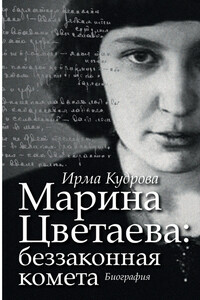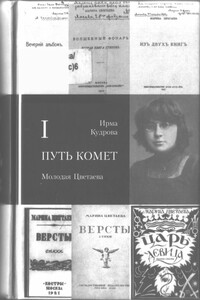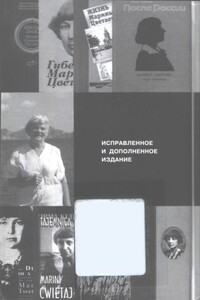Гибель Марины Цветаевой | страница 30
Николай Андреевич все чаще выпивает, и ему теперь уже хватает рюмки, чтобы потерять контроль над собой. И вот, когда контроль потерян, этот мягкий умница и душевно тонкий человек позволяет себе самые безоглядные высказывания; он попросту зло матерится по адресу высших властей и порядков в стране.
Вспоминала ли теперь Нина Николаевна разговор со своими родителями в середине тридцатых годов, когда те приезжали в Париж на короткое время? Как ужаснулись они, услышав о намерении дочери вернуться с семьей на родину! Как пытались предупредить о нараставшей уже в стране волне арестов — и как в ответ весело и упрямо дочь отвергала все предостережения.
— Детей хоть пожалейте! — услышала она тогда от матери. Но отмахнулась и от этого.
Вернувшись и довольно скоро поняв промашку, Нина Николаевна осталась верна себе: она и на родине — до поры, до времени — пыталась жить не по чужой указке.
Как и другим приехавшим в СССР сотрудникам зарубежных советских спецслужб, ей нельзя было выезжать из Москвы без позволения высокого начальства. Но она ездила — и, кажется, не однажды — в Ленинград: повидаться с братом и друзьями. Не полагалось переписываться с заграницей — она делала это, используя любую оказию. Запрещено было говорить непосвященным о своих связях с НКВД (это называлось «расшифровать себя») — Клепинины и с этим запретом мало считались.
Вся молодость их прошла в свободной стране, — чужой и неблагополучной, но свободной Франции, — и им была непонятна психология тех, кто здесь, в родных краях, уже двадцать с лишним лет подряд, год за годом, набивая шишки, в страхе за себя и своих ближних, отвыкал от свободы, внешней и внутренней.
И уж у себя-то дома, в своем кругу, Клепинины тем более не оглядываются, не осторожничают. Они говорят все, что им приходит в голову. В те годы можно еще было не бояться «ушей» в стенах и потолках, тех жучков-микрофончиков, которые загнали — спустя четверть века — советского интеллигента в кухню или в ванную. Туда, где беседа надежно заглушалась шумом радио или льющейся во всю мочь воды.
На болшевской даче говорили друг с другом без всяких помех.
Как вскоре выяснилось, и это было уже неблагоразумно.
Ибо есть устрашающая подробность в показаниях арестованных.
Всякий, кто приезжал в Болшево из Москвы, вез с собой ворох свежих газет и журналов. Читали их здесь с въедливой пристальностью, хотя трудно представить себе что-нибудь менее похожее на реальную жизнь, чем советские газеты конца тридцатых годов. Но если все-таки вообразить, что некий отдаленный потомок попробует довериться этим страницам, первым его простодушным выводом будет тот, что страна Советов в лето 1939 года жила постоянным ожиданием очередного небывалого праздника. Или небывалого свершения.