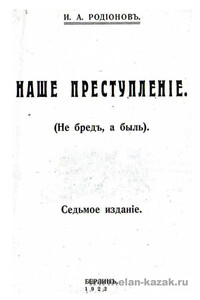Жертвы вечернiя | страница 71
— Чего же теперь про Царя говорить, когда Его уже нѣтъ... — тихо промолвилъ Волошиновъ.
— Все равно, будетъ, будетъ! — почти со слезами воскликнулъ Витя, ударяя своимъ маленькимъ кулакомъ по землѣ, — потому что... потому что безъ Царя нельзя!
Всѣ замолчали и задумались.
— Эхъ, курнуть бы! — со вздохомъ сказалъ Кастрюковъ. — И папиросы есть и спичками давеча въ станицѣ раздобылся...
— Нельзя. Надо терпѣть! — замѣтилъ Волошиновъ.
— Знаешь, «терпи, казакъ, атаманомъ будешь». Мало ли чего хочется?! Я бы самъ такъ затянулся... Ты вотъ сказалъ, а у меня сразу ажъ подъ ложечкой засосало, а терплю. О чемъ ты думаешь, Юра?
Юрочка скакалъ на одной ногѣ, борясь съ донимавшимъ его холодомъ.
Послѣ обращенія къ нему Волошинова онъ присѣлъ сбоку своего товарища.
Одѣтъ онъ былъ довольно легко: грѣлъ его только недавно раздобытый имъ ватный жилетъ. Все остальное одѣяніе, состоявшее изъ старой шерстяной рубахи, холодной, потрепаной шинели, рваныхъ штановъ, а на ногахъ дырявыхъ ботинокъ съ заношенными обмотками, плохо держало теплоту.
Отъ пронизывающаго вѣтра особенно страдали его руки и ноги.
— А такъ, ни о чемъ особенно... — отвѣтилъ онъ. — Видишь ли, я вотъ такъ часто думаю... не знаю, какъ бы это объяснить... Жизнь наша такая, что ужъ хуже нельзя и придумать...
Дукмасовъ и Кастрюковъ, отъ усталости готовые каждую минуту заснуть и мужественно боровшіеся съ дремотой, по тону и началу объясненій Юрочки почувствовавшіе что-то важное и имъ близкое, оба подвинулись къ нему.
— Да. Правда. Ужъ хуже и нельзя. Такая жизнь мнѣ никогда и во снѣ не снилась. Наше положеніе хуже положенія бродячихъ собакъ: отовсюду гонятъ, бьютъ. Негдѣ притулиться. И за что! Чѣмъ мы провинились? Что не хотимъ признать власть жида и хама? Вѣдь толькои всего. Такъ неужели Господь Богъ создавалъ землю только для нихъ однихъ? А другіе для чего же родились? Вѣдь никто изъ насъ самъ не напрашивался родиться. Родили насъ помимо нашего желанія. Что же ты хотѣлъ сказать, Юра? — спросилъ заинтересованный Волошиновъ, зорко всматриваясь въ темноту.
— Я такъ думаю, — продолжалъ Юрочка, — что теперь не промѣнялъ бы эту нашу отвратительную жизнь ни на какія горы золотыя у большевиковъ.
— О, я тебя понимаю, я самъ такъ часто думаю, особенно когда ужъ очень погано и жутко приходится. Вотъ живемъ мы подъ пулями и шрапнелями, въ постоянной опасности, терпимъ и голодъ, и холодъ, и вши эти проклятыя... Прямо самому себѣ иной разъ гадокъ становишься и думаешь, лучше бы ужъ поскорѣй укокошили, чѣмъ терпѣть всю эту пакость и муку. А съ другой стороны вотъ живетъ во мнѣ это сознаніе, что я-то правъ и мнѣ въ тысячу разъ лучше все это терпѣть, чѣмъ быть на сторонѣ этихъ подлыхъ гадюкъ — большевиковъ и пользоваться всѣми ихъ награбленными, презрѣнными благами жизни. По крайней мѣрѣ, сознаешь, что совѣсть твоя чиста, что стоишь ты за правое дѣло, за угнетенныхъ, ограбленныхъ, гонимыхъ, за несчастную, погубленную Родину...