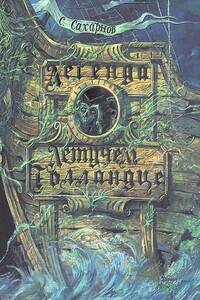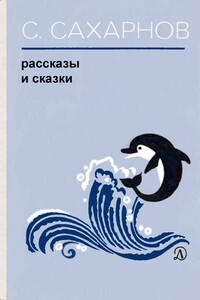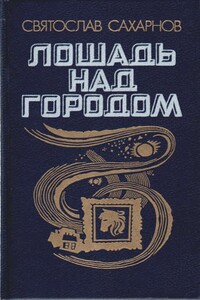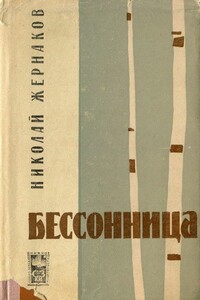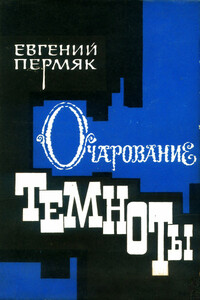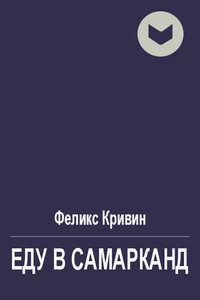Остров водолазов | страница 92
В тот же день налетевшим штормом был разбит коч, на котором шли люди Герасима Анкудинова, заклятого неприятеля Дежнева. Однако благородный казак, не бросив в беде соплеменников, приказал взять их на другие кочи, и шесть хрупких судов продолжили поход.
Счастье изменило отважным мореплавателям. Одна буря за другой обрушиваются на их суда, и вскоре Дежнев остается с двумя последними кочами. Но и они были выброшены на берег, и только двадцать пять человек закончили на Анадыре трудный поход.
Судьба остальных, без малого семидесяти казаков, осталась неизвестной…»
Один коч или, во всяком случае, его команда во главе с Федотом Алексеевым, — заметил Аркадий, — достигла Камчатки. Это установлено точно. Люди там со временем умерли, но свидетельства их пребывания найдены.
«…Первое предположение, которое приходит в голову всякому, кто знакомится с письмами Германа, состоит в том, что люди, основавшие первое поселение на Аляске, были счастливо спасшиеся казаки с кочей Дежнева. Убеждает в этом и число судов — семь, и маршрут — Колыма — Анадырь, и упоминание о церкви, построенной путешественниками в Анадыре. Действительно, именно Дежнев построил там первые острог и церковь.
Заманчивое это предположение покорило и меня, когда я впервые соприкоснулся с загадкой.
Однако долгие размышления над письмами и донесением сотника породили сомнения.
…Ко времени путешествия Кобелева (тысяча семьсот семьдесят девятый год) или Германа (тысяча семьсот девяносто четвертый год) существование поселения, в котором жили бы дети дежневцев, владеющие грамотой, читающие книги и прочее, становится невероятным.
Смены трех-четырех поколений в те времена было достаточно для полного забвения грамотности или пропажи к ней интереса.
Кроме того, предприимчивые казаки постарались бы и на новом месте построить или починить кочи и уйти назад на Чукотку с вестью о новом богатом крае, каким представляется лесная Аляска по сравнению с каменной чукотской тундрой. Спутники Дежнева были в душе своей не колонистами, а завоевателями-землепроходцами. „Читают книги, пишут, поклоняются иконам…“ — это, конечно, не дежневцы. „Всего у них довольно, кроме одного железа“ — так можно писать только о рачительных переселенцах. У потомков людей, выброшенных на берег сто лет назад, „всего вдоволь“ быть не могло.
Отсюда напрашивается вывод, что люди, упоминаемые Германом и Кобелевым, — не дежневцы.
Однако, рассматривая письменные свидетельства о плаваниях на Аляску в прошлом веке, я обнаружил следующее удивительное явление. Начиная с похода Федорова и Гвоздева в тысяча семьсот тридцать втором году, на котором подробно я остановлюсь ниже, начинается магия имен. Историки начинают следить за именитыми мореплавателями, бережно сохраняя для нас высокие фамилии Чирикова, Беринга, Евреинова, Шпанберга… О тех же, кто на самодельных дощаниках или ботах уплывал в океан из Колымы, или Анадыря, или Камчатки, никто более не пишет и судьбы их не прослеживает.