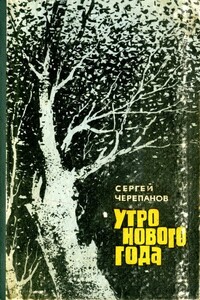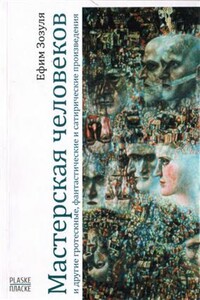Родительский дом | страница 39
— С ума сошел, дрянь! — обругал его Гурлев, сунув лицом в снег. — Обожди, я тебе душу на место поставлю!
Тут он Софрона не тронул, зато в избе отвесил затрещину. Тот пялился осовелыми глазами, гнулся, сидя на лавке, а после затрещины протрезвел.
— За что ты меня так, Павел Иваныч?
— Это тебе лекарство, чтобы в разум взошел!
— На том благодарствую, — без обиды ответил Софрон. — Погинул бы я и семью в сиротстве оставил. А все через дурость. Сгорела поди пимокатня?
— Отстояли.
— Лучше бы сгорела совсем.
— Ты на нее не пеняй, коли сам свихнулся. А еще звался бывалым солдатом! За мать-Родину воевал! Чего тебя к Согрину понесло?
— Не знаю, — мотнул головой Софрон. — Значит, больше всего обиды поимел на него. Деньги, кои он платил за работу, казались нечистыми. Возьму в руки — пальцы жгут! Отчего?
— Спьяну, наверно, поблазнило. А деньги везде как деньги! Не сам Согрин. У него добром-то поганого веника не допросишься! И не надо было их рвать и топтать. Отдал бы Добрынину, коли самому не нужно.
— Такие деньги нельзя добрым людям давать. Зло ведь. Кто я теперича из-за них? Не человек. Страшно на себя посмотреть. Все здоровье, весь белый свет потерял за ради каких-то бумажек.
— Нажиться хотел? — спросил Гурлев.
— Да хоть из бедности выбиться. Надоела нужда, и возмечтал я о лучшей жизни. Во сне стало видеться: живу в крестовом доме, три горницы у меня, чистые половики настланы, занавески на окнах, цветки в горшках, а в конюшне сытые кони; и баба-то моя отмыта от черноты, в новом сарафане, и детишки причесаны, прибраны. Проснуся, гляну вокруг — ничего нету, голые стены. И стал думать: воевал за хорошую жизню, но где же она, пошто мой двор обегает? С того и решил: надо самому выбираться! Жилы себе порву, а скоплю денег и построю крестовый дом. И жадность меня обуяла. Посчитаю деньги — мало! Надо еще добывать.
— В кулачество податься хотел? — зло сказал Гурлев. — За что воевал, то забыл!
— Ну, какой из меня кулак, — облегченно выдохнул Голубев. — Уж ты, Павел Иваныч, зря не греши! Просто хотелось по мужицкому состоянию быть не последним. Да ведь и не зачудил бы я, а это баушка Марфа Петровна меня с толку-то сбила. Я ей пимы недавно свалял. Пришла она за ними и давай-ко мне выкладывать всякую всячину. За три года я ведь, окромя полатей в избе да пимокатни, нигде не бывал, даже с суседями не обмолвился словом. Посплю, поем и опять в свою темницу. А тут, как начала баушка Марфа языком-то чесать, уши навострил: неладно что-то в миру! Вот-де знамение и видение было, начнутся громы большие, пронзит землю огонь и опалит ее, даже дурная трава не станет расти, а люди повсюду святые кресты обозначили. Неужто, думаю, опять война началася? Не догадался, однако, спросить баушку: зачем, мол, в таком разе ты, Марфа Петровна, пимы себе новые справила? Да и свою же бабу не поспрошал. Выглянул со двора в улицу: верно, на окошках и на воротах у суседей кресты. И сразу ударила мне в башку-то печаль. Зазря, значит, столько годов робил день и ночь! Без пользы для себя и семейства. Вынул из кошеля деньги — вот и весь мой труд в этой бумаге! А в душе пусто, как в старом амбаре. Потом еще вспомнил: ведь на своем поле давным-давно не бывал, уж не знаю, с коей стороны от двора солнышко всходит и заходит. Баба моя состарилась от нужды. Детишки разуты и раздеты, на голой печи сидят. Глянул на себя в зеркало — видом страшнее дурачка Тереши!