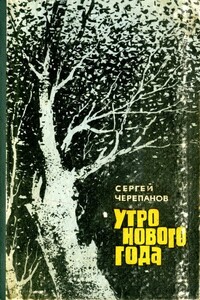Родительский дом | страница 15
— Это на первую пору. Недели две-три проживешь. Поправишься. Ступай пока в город. Там народу много, скорей затеряешься. А мне потом письмецо пришли по прежнему адресу, в Калмацкое, к Зинаиде. И не смей своевольничать.
Барышеву такой тон не понравился:
— Вдруг ослушаюсь? Здесь останусь?
— Тогда пеняй на себя…
— Сничтожишь?
— Немедля! Ради твоей личности делом не попущусь! Не становись мне, Павел Афанасьич, поперек путя! У меня руки далеко достают…
Барышев согнулся, как отчаявшаяся собака, взятая на железную цепь.
— Только за этим ты звал меня?
— Это я лишь напомнил. Не забывай, кто ты есть! У тебя выбору нету: если не станешь служить мне, то примешь жестокий конец! Либо я порешу, либо советская власть тебя расстреляет. А умирать-то охота ли?
— Подыхать никому не охота, Прокопий Екимыч, — сказал Барышев. — И все же не за тем я согласился вернуться. Горит душа!
— Пусть горит, но дотла не сгорает, — не меняя хозяйского тона, предупредил Согрин. — Тем будет слаще любое дело, кое тебе поручу.
— А много ли вас?
— С кем будет нужно, тебя сведу. Ведь не на всякого, хотя бы на свата и на родного брата, можно с уверенностью положиться. Чуть пришпорит их — продадут! За-ради собственной шкуры.
— А я-то полагал: вас здесь сила! — разочарованно выдохнул Барышев.
— Большой силы уже нигде не набрать, время сработало супротив нас. Не к чему ублажать себя сказками. В кустанайских степях наши пытались подняться. И чего же добились? Ровно, как муха быка укусила. Нет, Павел Афанасьич, теперь надо входить в настоящее рассуждение и сознавать, на что ты возможен.
— Мелочи предлагаешь, Прокопий Екимыч?
— Это уж как сказать!
— И, значит, велишь уйти?
— Уйди! Скоро хлеба поспеют, начнется жатва. Тогда позову. Но еще раз надпоминаю: не своевольничай!
— Ладно уж! — вяло отозвался Барышев. — Не сумлевайся. Только про бабу-то мою расскажи. Из твоего письма я мало что понял. Как она тут?
— Ничего твоей бабе не сделалось, — сказал Согрин. — Любовничает с другим мужиком…
Барышев рванул ворот рубахи.
— Убью!
— Спробуй посмей! — стукнул кулаком Согрин. — Твоя баба гроша не стоит перед тем, какие ущемления и порухи доставляют партейцы! Вот ты попросту бандит…
Барышев при этом слове вздрогнул, скрипнул зубами, и Согрин более мягко добавил:
— Бандит в том смысле, куда привела тебя дорога с Колчаком. И не бывать тебе сейчас в миру, отрезал ты в него для себя все путя. Но что же теряешь ты? Самого себя, да бабу и немудрящее хозяйство. А у нашего сословия из-под ног выбивают все основание, на чем мы держались. Спокон века жили тут наши деды и прадеды, имели власть и доходы, а теперич стали мы как болячки на теле. Но поправить положение нельзя. Я читаю газеты, слежу, о чем они пишут, и выходит так: наступает нашему сословию полный конец! Так что же, принять его безропотно или же по мере возможности отквитаться?