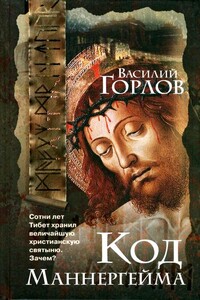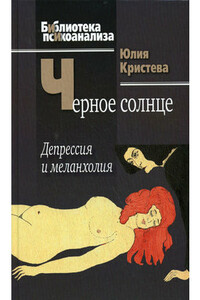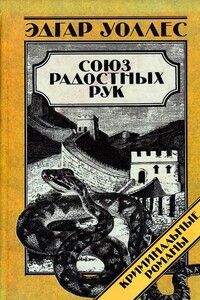Смерть в Византии | страница 44
Рильски склонился над страницами с голубоватым кружевом отжившего свой век почерка, отдающего женской сентиментальностью.
«Говорить на всех языках и ни на одном из них — значит говорить на языке тишины. Я не из их числа, я говорю так, как в моем представлении им хочется, чтобы я говорил, и это вовсе не обязательно ложный язык, но это точно определенная роль. От одной роли к другой — и вот я уже с удивлением обнаруживаю, что болтаю. Ребенок с заживо снятой с него кожей молчал, а потом превратился во взрослого болтуна, использующего язык тишины».
Когда же он мог написать такое? После любовного разочарования? Ссоры с Эрминой? Случайной встречи с Рильски, не узнавшим его? Поскольку даты проставлены не были, записи застыли, заиндевели в своей вертикальности. Один на один с «Дневником» Себастьян позволял себе лирические пассажи, более или менее вдохновенные мечтания вперемешку с откровениями пловдивских крестьян, описанием местных красот, поэтическими строфами и цитатами на различных языках. И все же было очень странно, что, несмотря на то что в этих записях тщательно реконструировалась одна очень давняя история — видимо, история рола Крестов, — с привлечением исторических документов, имеющих отношение к крестовым походам, ни на одной из страниц «Дневника» не была проставлена дата. В его времени места для самого времени не было.
Нортроп подумал о той тишине, которая — он ощущал — утверждается в самой глубине его существа и к которой он теперь прикоснулся после дня, проведенного в допросах закоренелых преступников либо все еще не оправившихся от потрясения жертв, в разговорах с занятыми сверх меры и уже ни к чему нечувствительными судейскими и должностными лицами, циничными законоведами. Продырявленные пулями и замороженные в моргах трупы были, как ни странно, более многословны в своей немоте. «Беседовать с этим криминальным людом», «беседовать о нем» — не совсем подходящее выражение. В качестве полицейского он скорее ограничивался расшифровкой диалектов и выявлением сути, которая чаше всего оборачивалась лишь молчанием. Безотносительно того, что толпа именует «чудовищным» и «зверским» в «человеческой природе». Не переступившие черты любят театральные эффекты и шум, их отвращение само по себе зрелищно, красноречиво. В глубине человеческого существа, там, куда целит ужас, Рильски наткнулся лишь на плотную тишину, неизмеримую странность, еще более пугающую, чем безумие, которое в конечном итоге довольствуется теми патетическими, но невинными колебаниями на поверхности, от которых кипятком писают психиатры.