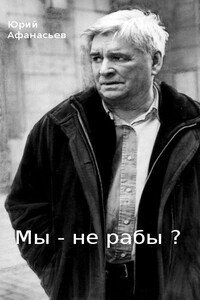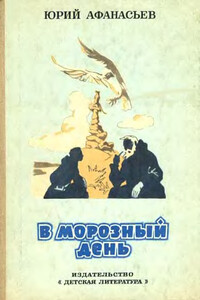Историзм против эклектики. Французская историческая школа. Анналов» в современной буржуазной историографии | страница 15
Такое представление, безусловно, шаг вперед по сравнению с контовским догматизмом. Область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства, где объектам познания не может быть навязана единообразная интеллектуальная модель, заимствованная из наук о природе, и где нет места шаблону, не может считаться по этим причинам ненаучной. Однако, затворяя ворота в храм науки перед догматизмом, не следовало при этом оставлять открытой калитку для релятивизма, как это делали Блок и Февр, ибо "релятивизм, как основа теории познания, есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей, мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание"[25].
Третья проблема, на которую следует обратить внимание при анализе исторических условий возникновения школы "Анналов",- это сам процесс научного познания и конструктивная роль ученого, созидающего средства, методы этого познания. Известно, что революция в естествознании выразилась не только в новых научных открытиях и теориях, радикально изменивших прежние представления о физическом мире и мире живой природы. Сама разработка этих теорий сопровождалась коренной ломкой укоренившихся в классической науке мыслительных форм, утверждением принципиально нового стиля научного мышления.
На стене Брюссельского университета висит доска, на которой начертано высказывание, принадлежащее Анри Пуанкаре[7]: "Мысль никогда не должна подчиняться ни догме, ни направлению, ни страсти, ни предвзятой идее, ни чему бы то ни было, кроме фактов, потому что для нее подчиниться значило бы перестать существовать".
Факты... Мысль... Свобода... Не всегда факты занимали по праву принадлежащий им престол в царстве мысли, и тогда, как это было, например, во времена средневековой схоластики, мысль лишалась свободы. Но бывало, что и царствование фактов превращалось в ее оковы. Это случалось, когда их власть становилась абсолютной. Так было, например, в период, непосредственно предшествовавший революции в естествознании. В то время эмпирики до небес превозносили индукцию и рассматривали ее как универсальный метод. Господствовало убеждение, что ученый должен собирать факты, наблюдать, изучать их и затем переходить к построению теории. Но как быть, если ученый начинает подозревать или знает, что наблюдаемые им факты упрощают или искажают действительность? Должна ли научная мысль подчиняться фактам в абсолютном смысле?