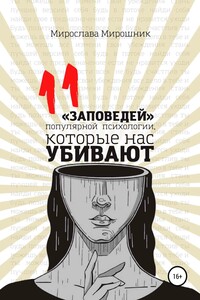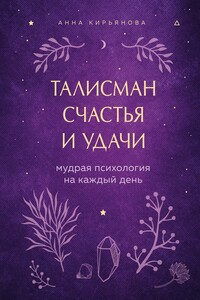Дочки-матери. 3-й лишний? | страница 35
Этот феномен, отметим особо, наглядно иллюстрирует столь уместное замечание Жоржа Девере по поводу расхождения между способностями психоаналитиков описать, что есть благо для клиента, и их самоцензурой, вызванной преданностью теоретической догме. Проблема существенно расширяет границы фрейдовской теории, во Франции это подтверждает лакановская модель, как и множество других примеров. Можно упомянуть, в частности, книгу психоаналитика Мари-Магдалены Лессаны, посвященную взаимоотношениям матери и дочери. В интереснейшем исследовании, проведенном в случае Мадам де Севинье, замечательно проиллюстрировано инцестуозное измерение нарциссических злоупотреблений. Автор вполне определенно утверждает, что «дочь служит ее оболочкой, второй кожей, как в смысле украшения, так и в смысле защиты. Украшением, чтобы нравиться. Защитой от того смущающего и даже смертельно опасного, что пробуждает в ней связанная с ее мужем сексуальность». Разорвать однажды такую смертоносную связь – «все равно, что вернуть каждого под свою кожу». Но единственное теоретическое определение того, о чем говорит М.-М. Лессана и что Жак Лакан называет «опустошением», это «болезненное проявление скрытой ненависти, постоянно присутствующей в исключительной любви между матерью и дочерью. Оно объясняет невозможность гармонии в этой любви, которая сталкивается с невозможностью сексуального выражения». Здесь обнаруживается ограниченность центрированной на сексуальности теории, которая с трудом принимает возможность существования «платонического инцеста», иначе говоря, инцестузного насилия любви, ее перверсивной формы. Такая любовь стремится не к сексуальному наслаждению, ее цель – чужая идентичность, не реализация эротических импульсов, а удовлетворение идентициональных или нарциссических потребностей.
Довольно странно, что психоаналитики проявляют столь незначительный интерес к так широко распространенному виду патологии материнской любви, тем более разрушительной, чем тщательнее рядится она в одежды особой добродетели вместо нормального естественного чувства. Возникает ощущение, что это удивительное замалчивание – чуть ли не заслуга психоаналитиков-теоретиков. Если правда, что «психоаналитические прения по поводу отцовско-дочерних отношений ничтожно малы по сравнению с тем объемом исследований, который посвящается отцовско-сыновним отношениям, что уж тогда говорить об отношениях матери и дочери? К слову, Франсуаза Кушар выявляет странную тенденцию замалчивать эту особенность женского существования: «Любопытно обнаружить подтверждение данной мысли в том, что и мифологи, и психоаналитики по полной программе исследуют отношения матери и ребенка и будто выделяют привилегию детям мужского пола, практически не интересуясь дочерьми. Создается впечатление, будто взрывоопасная смесь влечения и страха в материнском образе имеет отношение только к мальчикам, в целом не затрагивая взаимоотношений матери и дочери».