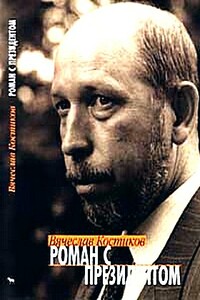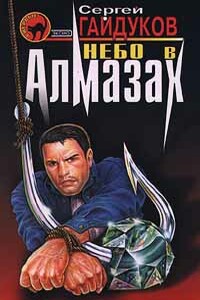Errare humanum est | страница 12
— Это все, что у вас есть? — спросил Гурмаев. Письмо казалось слишком коротким, и ему не терпелось обзавестись еще каким-нибудь манускриптом. Продавцу с трудом удалось убедить клиента, что это единственное и последнее письмо, случайно попавшее к нему от умершего родственника, офицера-колчаковца, не пожелавшего сдать письма в советский архив из-за классовой ненависти к новому строю.
Несмотря на заломленную цену, Гурмаев был счастлив. О такой удаче можно было только мечтать. О. Гурмаев хорошо приметил, как завистливо загорелись глаза какого-то громилы с татуировкой на груди. Но Гурмаев добычи не упустил. Громила ходил за ним следом и, унижая собственное достоинство, просил перепродать рукопись.
— Для народа стараюсь, — изощрялся скупщик.
— Я тоже дитя народа. Мои дальние родственники землю пахали, — краснея, парировал Гурмаев.
— Для народных деток. Умру, в детский сад передам! — умолял верзила.
— Я сам внуков жду. Двойняшечек…
— Дай вам бог, — посочувствовал Ширинкин (это был он).
— …с белыми головками, как у Есенина, — проговорил профессор. И в это мгновение почувствовал острую боль в ноге.
Тяжелый башмак Ширинкина безошибочно нащупал профессорскую мозоль.
— Что же вы делаете? — переходя от боли на «вы», взвыл профессор. — Я милицию позову. В Бутырку захотели?
— Бутырку сломали. На ее месте стоят прекрасные дома из стекла и бетона, — отозвался Ширинкин, елозя подошвой по гурмаевской мозоли.
— Как вам не стыдно! У меня мозоли, — взмолился профессор.
— Хотите сведу с мозолистом? — спросил Ширинкин, слегка отпуская профессорскую ногу.
— Подите к черту!
— А кто мозоли будет резать?
— Во всяком случае, не вы, — зло сказал Гурмаев, чувствуя, что боль в ноге мешает ему быть книголюбом.
— Про Ширинкина слыхали? — скромно спросил Сидор.
— Предположим, — с замиранием сердца пролепетал Гурмаев, видя, как между пальцами книгочея бегает лезвие безопасной бритвы. Его охватил страх.
— Книголюбы!.. — жалобным голоском позвал Гурмаев. — Любителя словесности обижают…
Но книголюбы его не слышали.
— Тише! Не бойтесь, ради бога, — прошептал громила. — Я не тот, о ком вы думаете. Я не француз Дефорж, я Ширинкин…
Так среди клиентов прославленного мозолиста появился профессор Гурмаев.
Когда профессор Гурмаев, попарившись в баньке, усталый и вальяжный (как говаривал Ширинкин) садился на стульчик перед другом мозолистом, для обоих наступала минута блаженства.
В институте о новом своем увлечении профессору говорить было неловко, да и некогда. Дома этот разговор неизменно наводил на мысли о замужестве Ирочки, и это было всегда грустно. Словом, оставался Ширинкин. Сидору же Ивановичу было лестно, что известный профессор, знакомый даже с министрами, запросто разговаривает с ним, и не о мозолях, не о ломоте в костях, как давеча утром генерал, а о душевном, о книге.