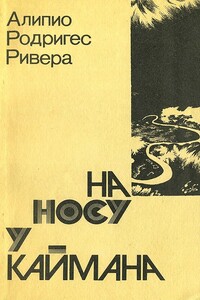Смерть экзистенциалиста | страница 22
— Еще бы, — вмешался Саломатин. — Наш удел ведь не изменился. Мы все так же смертны, как и во времена Сократа. Или за сто веков до него. Какой же прогресс?
— А при чем здесь то, что мы смертны? Не о том же речь! — изумился зоопсихолог.
— Именно о том. Вернее, только об этом и стоит речь вести, все прочее маловажно.
— Вы его извините, он у меня экзистенциалист, — улыбнулась Шура.
— Экзистенциалист? Любопытственно. Ни разу не встречал живого экзистенциалиста. Ну так, вы начали с того, что люди смертны. Дальше что?
— А дальше — поскольку смерть каждого из нас неизбежна, она перечеркивает любой смысл, какой бы мы ни пытались придавать нашим действиям. Нет цели и нет смысла ни в чем. Вся история — не судьба наша, а просто ситуация, сумма обстоятельств, в которых мы существуем.
— Ого! И что из этого следует? Сложить крылышки и в штопор?
— Наоборот! Только в мире без смысла, без цели, только помня о смерти, можно и ощущать себя и на самом деле быть свободным. Раз я обречен, мне нечего терять и некого бояться. Раз я обречен, мне ничего нельзя запретить и ничем нельзя помешать, я абсолютно свободен.
— Так, так, значит, все дозволено?
— Все!
— Погодите, мужчины! — возмутилась Шурина подруга Галочка. — Это же ерунда. Ну, мы умрем — пусть, но дети наши останутся!
— А они что, бессмертны? — спросил Саломатин. — И они так же умрут. И вы, Галочка. Сейчас на вас приятно смотреть, а через полвека вас уж червячки объедят…
— Вовка! Не порть людям аппетит!
— Прошу прощения. Впрочем, если я замолчу, правда о будущем, ожидающем всех, не изменится.
— От такой правды жить не захочется! — сказала Галочка.
— Именно. Для того и создали цивилизацию и культуру, чтобы в суете некогда было думать о неизбежном. Все — и наука, и политика, и быт — развлечения, не более того. В занятиях большой наукой смысла не меньше и не больше, чем в карманных кражах: и то и другое лишь способы отвлечься от мыслей о смерти.
— Ну и ну! Вы, Владимир, по первоисточникам знакомы с этой философией или домыслили сами к тому, что слышали краем уха?
— По первоисточникам, — храбро соврал Саломатин.
— И Кьеркегора читали? Расскажите, кто он, этот ваш кумир. А то все о нем говорят, в моду вошел, а, в сущности, никто ничего не знает, кроме того, что раньше писали «Кьеркегор», а теперь — «Киркегор».
Уфф! Если бы этот дотошный зоопсихолог спросил о Хейдеггере или Габриэле Марселе, Саломатину осталось бы только сдаться. Но Киркегор! История Киркегора была не просто ему знакома, она была внутренне ему близка. Как и датский мыслитель, он через десять лет после разрыва питал к бывшей невесте сильные чувства. Пожалуй, более сильные, чем то, что осталось бы от любви, проживи они эти десять лет вместе. Правда, к Ларисе он чувствовал не любовь уже, а обиду, злость, ревность… Да и не сам он отказался от Ларисы. Но все же очень хорошо понимал Киркегора.