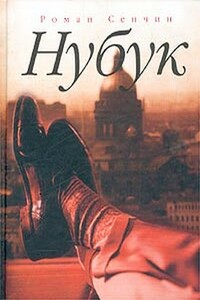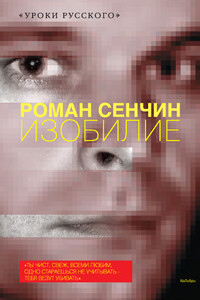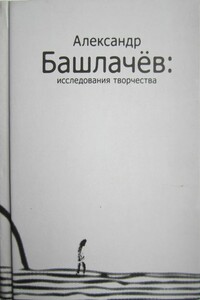Не стать насекомым | страница 78
Да, термин диковатый, многими обруганный, но, на мой взгляд, очень точный. Сейчас предостаточно умно, грамотно, оригинально, даже интересно написанных текстов. Их не стыдно выдвигать на различные премии, бывает, советовать прочесть знакомым; качественная литература, в общем-то, и является лицом современной словесности. Но, поразмышляв, приходишь к мысли, что ничего бы не изменилось, если бы многие из этого рода текстов не появились на свет. И дело здесь не в темах — темы-то зачастую важные, которые литература обязана изучать, дело — в раскрытии этих тем.
Большинство писателей не знают реальности, не интересуются ею всерьёз. Пишут из головы. И нагляднейший пример этого — роман «Асан» Владимира Маканина. Может быть, лет через пятьдесят чеченскую войну будут воспринимать именно по этому произведению, но сейчас, когда документальные детали войны ещё ярки и свежи, «Асан» кажется романом надуманным, граничащим с модными ныне антиутопиями.
Кстати, обилие антиутопий в последние годы объясняется, на мой взгляд, не тем, что писатели стремятся заглянуть в скорое будущее страны, а незнанием действительной жизни в стране. Той повседневной, обыкновенной жизни, которая и составляет атмосферу жизни в художественном произведении. Сидеть в кабинете и сочинять куда приятней и безопасней, чем, как Золя, лезть в шахту или, как Толстой, ходить по тюрьмам. И получаются в итоге талантливые, значительные, но лабораторные работы. А художественная литература — это нечто иное.
Но движение прозы требует живых текстов, и не случайно в последние годы произошло столько открытий новых имён. Начало 2000-х в плане дебютов оказалось на редкость обильным. Но, к сожалению, дебюты зачастую остаются ярче, чем вторые, третьи книги молодых авторов. Это видно по уже достаточно продолжительному писательскому пути и Сергея Шаргунова, и Андрея Рубанова, и Германа Садулаева, и Дениса Гуцко. Без сомнения, они сделались профессиональнее, но жизни в их новых книгах, по-моему, меньше и меньше.
Чаще всего, думаю, человек решает стать писателем потому, что чувствует: у него есть о чём рассказать другим. И он, мало обращая внимания на то, как нужно конструировать повесть или рассказ, или роман, начинает рассказывать. Иногда получаются действительно сильные вещи и становятся фактом литературы, а автор входит в писательский цех, и пишет следующую вещь, более ответственно, разумно, тщательно… Ему уже нужен свой стол, часы тишины, он размышляет над сюжетом, развивает воображение, выбирает, как бы оригинальнее назвать героев, чтоб запомнились (имя героя «Домика в Армагеддоне» — именно такое выбранное имя: покажите мне сегодня молодого русского парня по имени Ефим). А жизнь со всеми её деталями протекает теперь несколько в стороне от писателя… Как этого избежать, как сохранить тот накал, что содержат почти все литературные дебюты последних лет?.. Не заставлять же, скажем, Дениса Гуцко бросить Ростов-на-Дону, где он живёт, забыть, что он писатель и устроиться или рабочим в Шанс-Бург, или вступить в Православную Сотню. Да и я сам, чувствуя, что пишу лабораторные работы, вряд ли отважусь выйти из своей лаборатории.