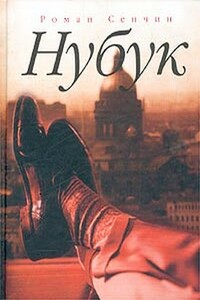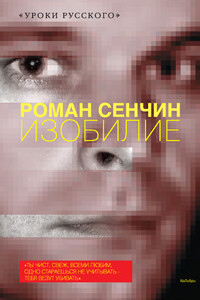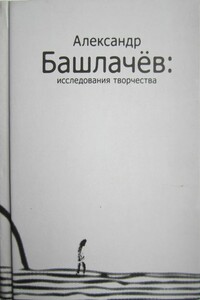Не стать насекомым | страница 64
Знаток и почитатель авангардной поэзии Кирилл Анкудинов писал десять лет назад на страницах «Литературной учёбы» (1998, № 2): «Сейчас в моде тайнопись, герметизм, «тексты для посвящённых» <…> Последняя мода чтит бессмыслицу непростую, посверкивающую вспышками неизвестно откуда возникающих смыслов, плавно перетекающую в смысл, который, в свою очередь, даёт начало новой бессмыслице. Современная бессмыслица кокетлива, ей не к лицу быть однозначной. <…> Такой поэзии не нужен читатель, она не сможет общаться с ним, поскольку глуха и нема одновременно. <…> Люди так одиноки, так жаждут понимания. Поэт мучается, пытаясь отыскать единственное сочетание слов, чтобы его поняли правильно. Нам не дано предугадать… Ведь проклятье творчества связано именно с невозможностью быть понятым. И это проклятье оплачено кровью поэтов. По правде говоря, стихи-то пишутся для понимания. Только для понимания».
Но понять то, что писала подавляющая масса поэтов того времени, было действительно невозможно. И вот уже не выдержал Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», где публиковались многие авангардные, «последней моды» поэты (хотя, по-моему, его слова обращены главным образом к любимым с юности, но вдруг ставшим непонятными в своих новых произведениях поэтам): «Есть ли у нас сейчас поэты, не инфицированные неслыханной сложностью, не отворотившиеся от нас, сирых, с гримасой кастового, аристократического превосходства? Есть, конечно. Инна Лиснянская. Татьяна Бек. Тимур Кибиров. Иван Волков — каждый на свой лад продолжит этот список исключений. Понимая, что говорит именно об исключениях, а не о нынешней норме. Имя которой <…> — аутизм» («Знамя», 2004, № 1).
Пиком этой нормы стал выход в конце 2004 года толстенной книги «Девять измерений» — «антологии новейшей русской поэзии». Авангардизм, вымученное экспериментаторство, стёб, поэтический аутизм были представлены во всей их полноте. Десятки и десятки авторов, сотни текстов, статьи, теоретически обосновывающие прелесть такого рода литературы… Казалось, настоящая, понятная, душевная поэзия погибла, окончательно ушла в историю. Но пик оказался и закатом этого периода русской поэзии — уже оформилось новое поколение двадцатилетних, начали возвращаться на страницы периодики, выпускать книги те, кто лет пятнадцать назад ощутил ненужность своей поэзии в то время. Перечислять их имена в данной статье излишне, достаточно полистать литературные журналы и газеты последних трёх — пяти лет, походить на поэтические вечера, которые в избытке проводятся в Москве, да и других российских городах. Настоящая поэзия, поэзия для читателя возрождается. Один из таких примеров — стихи Елизаветы Емельяновой.