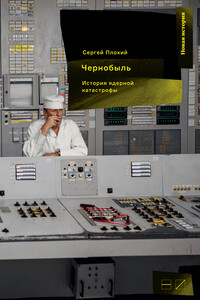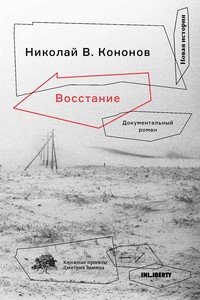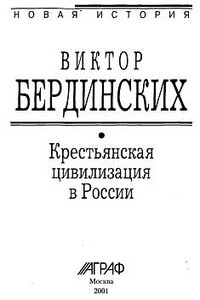Евреи и Евразия | страница 9
Еще менее приходится ожидать чего-либо нового и оригинального в интересующем нас направлении со стороны радикально-социалистических течений в эмиграции или со стороны той части внутрироссийской интеллигенции, которая связана с нынешними коммунистическими держателями и монополистами власти. Несмотря на внешнее разрешение еврейского вопроса в Советской России, входящее в область действия простой и механической отмены и уничтожения всяких национальных и паспортно-вероисповедных ограничений (отмена эта, впрочем, восходит к Временному правительству), по существу, вопрос этот, во всей сложности вытекающих из него государственно-правовых и житейски-бытовых следствий, остается неразрешенным и там, о чем свидетельствует разрастающийся, по единогласному свидетельству наблюдателей, антисемитизм. Разрешение вопроса, в истинных и последних основаниях своих религиозного и эсхатологического, исходящее от власти безбожной и материалистической, для которой вероисповедные и национальные различия между людьми представляются только терпимым до времени злом, во всяком случае, чем-то досадным и отживающим или даже отжившим, не может являться хоть сколько-нибудь удовлетворительным для всякого, кто, как мы, видит в наличности религиозного и национального сознания народов некое положительное и непреходящее благо, а историческое шествие и преемство народов и культурных миров осмысливает в категориях таинственных осуществлений внемировых и предвечных предопределений.
По всем этим причинам нам представляется особенно важным и многозначительным то обстоятельство, что именно на страницах периодического органа, идейно и персонально стоявшего близко к евразийству, была произведена первая в эмиграции попытка осветить всю глубину современной проблемы русско-еврейских отношений с некоторой высокой и истинно философской точки зрения, принадлежащая перу писателя, немало внесшего в развитие евразийства. Мы разумеем здесь высокоинтересную, исполненную искренним стремлением проникнуть в трагическую мистику еврейской судьбы в этом мире статью проф. Льва Платоновича Карсавина в 3-й книге парижского журнала «Версты» (1928).
В своей ответной статье, помещенной на страницах того же тома, А.З. Штейнберг, выступая в качестве представителя еврейской точки зрения, правильно охарактеризовал статью Л.П. Карсавина как первый шаг по извилистому и многотрудному пути. Этот путь должен, конечно, быть символически понят как пролегающий по широким, мертвым пустырям взаимного непонимания и нетерпимости, и подвиг примирения и сближения, к которому зовут оба автора, должен представляться как встречное прохождение и сокращение этого пути, предпринятое с обоих его концов и осуществляемое усилиями и творчески-примирительным духом обеих сторон. И мы должны начать здесь с заявления, что, по нашему искреннему убеждению, соответствующий карсавинскому шаг с еврейской стороны еще не сделан и