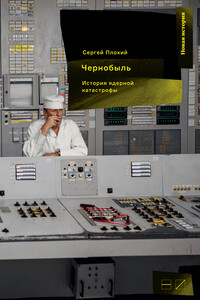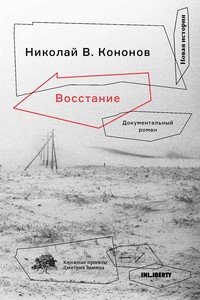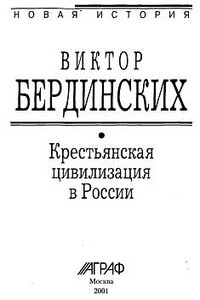Евреи и Евразия | страница 18
Падение монархического начала в средней Европе, с ее если не многочисленным, то, во всяком случае, исчисляющимися в миллионах еврейским населением, привело к торжеству на развалинах центральных империй начал республиканско-демократических, существенно соединенных с доктриной о государстве как о реальности порядка социально-правового, генетически, онтологически и морально не выходящем из сферы чисто утилитарной и практической и не могущем иметь притязания на значение и ценность в смысле религиозно-мистическом и метаисторическом. Оно освободило умы еврейской периферии от нравственного противоречия, тяготевшего над нею, как некий кошмар, от самого зарождения этой периферии в конце «просветительского» XVIII-го столетия (надо, впрочем, оговориться, что понятие периферии, заимствованное нами из области отношений восточно-европейских и евразийских, едва ли приложимо в настоящее время к отношениям в Средней и Западной Европе, где о существовании противополагаемого периферии основного этнического и бытового массива уже в настоящее время не приходится говорить). Отсюда безусловно положительная оценка нового порядка вещей в Германии, Австрии, Чехословакии и даже в Венгрии и Румынии, где скрыто или открыто сохранился монархический принцип, со стороны общественного мнения еврейских верхов Срединной Европы и даже попавших в нее периферийных евреев из прилегающих областей Евразии.
Замечательно здесь то, что как раз в данном случае приобретения евреев в области публично-правовой оказались более чем скромными, иногда ничтожными (Румыния) или даже отрицательными (Венгрия). Тем не менее ни крушение коммунистического режима в Венгрии, участие в котором тамошней еврейской интеллигенции достигало размеров, еще гораздо более компрометирующих, чем в России, ни по следующие бичи и скорпионы белого террора, в значительной степени обрушившегося на еврейское население уже просто как таковое, ни искалеченное существование тысяч еврейских интеллигентов, вынужденных приспособиться к совершенно новым условиям существования и переучиваться новым языкам, не затмили светлого ореола среднеевропейской революции в глазах еврейской интеллигенции. Посторонний наблюдатель не услышит из уст среднеевропейского студента или универсанта-еврея тех жалоб на кругу и неожиданную ломку существования, какие приходилось нам слышать из уст простых, малограмотных евреев откуда-нибудь из Буковины, Галиции или Трансильвании