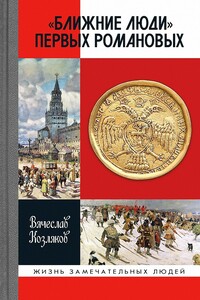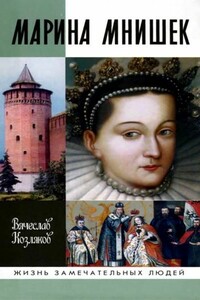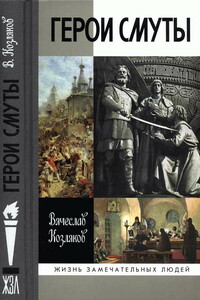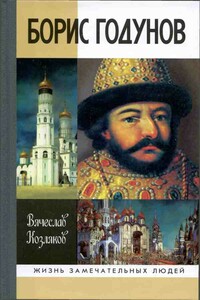Михаил Федорович | страница 22
Полное название этого явления — «земский собор» — появилось на свет в 1850-е годы в полемике западника С. М. Соловьева и славянофила К. С. Аксакова. В источниках речь идет просто о «соборах» или «Совете всея земли». На этом основании уже в наши дни покойный немецкий историк Х.-Й. Торке построил целую концепцию, в которой поставил под сомнение саму практику соборного представительства XVI–XVII веков, предложив другое название: «московские собрания»[36]. Дело в том, что соборы затрагивают еще одну сложную исследовательскую проблему. Понятия «земля», «земский» в Московском государстве — очень широкие и неопределенные, и каждый раз нужно смотреть на контекст, в котором они встречаются. Применительно к соборам «земля» — это представительство «чинов» на совете с царем. Причем возникает закономерный вопрос: можно ли поставить знак равенства между «чином» и «сословием»? В этом споре автору ближе позиция тех исследователей, кто не склонен углубляться в схоластические дебри вокруг терминов. Достаточным основанием для того, чтобы говорить о сословиях в Московском государстве времени царя Михаила Федоровича, является самоидентификация представителей разных чинов: крестьяне никогда не называли себя служилыми людьми и наоборот. Кроме того, в деятельности русских царей, особенно начиная с Бориса Годунова, уже заметна целенаправленная работа по установлению границ между сословиями, утверждению принципа преемственности родства и занятий. Само изживание Смуты было во многом связано с тем, чтобы вернуться к понятному и справедливому порядку существования чинов и принципам движения людей по сословной лестнице.