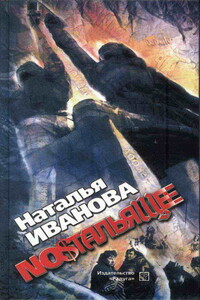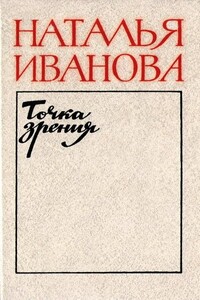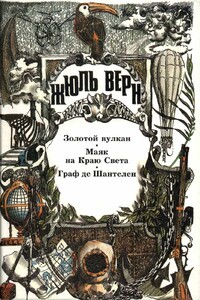Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век | страница 50
Всей этой «пошлости» противостоит в повести советский стиль: спички, которые не горят, но которыми в отсутствие денег выдают жалованье; черным по белому — «Начканцуправделснаб»; обращение «товарищ»; лозунг «Рукопожатия отменяются!» и т. д.
В глубине душ еще гнездятся старые культурно-бытовые рефлексы. Если старинный орган случайно заиграет «Шумел, гремел пожар московский», то вахтер Пантелеймон, строго приказавший Короткову: «Нельзя, товарищ!», сомнабулически преобразится: «В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг — и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул неведомую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками» (курсив мой. — Н. И.).
Безнадежная попытка Короткова приспособиться к новому советскому стилю заканчивается самоубийством.
В «Собачьем сердце» мы найдем в еще более детализированной форме все те же знаки нормального быта (культуры, плюс цивилизации, плюс то, что пренебрежительно названо Маяковским «мещанством», а Луначарским — «пошлостью»). Профессор Преображенский появляется в «чернобурых лисах», ковры в квартире «персидские», да и сама квартира состоит из семи комнат: в столовой — обедают, в спальне — спят, в кабинете — работают, в операционной — оперируют. Апофеозом «бытности» является описание обеда, подаваемого на разрисованных райскими цветами тарелках. Рефреном звучат слова профессора: «Пропал Калабуховский дом!», и именно дом становится местом борьбы культуры с антикультурой, быта — с антибытом. Пока горит «зеленая лампа на столе», пока калоши можно оставить в подъезде, а лестница будет устлана дорожкой, — до тех нор будут лежать на столе «какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками» и золотиться «внутренность Большого театра». Высокая культура у Булгакова не только неотъемлема от культуры бытовой, но связана с нею прочнейшими нитями: погибнет одна — исчезнет и другая.
Знаком уходящей культуры является и настоящая женственность (недаром столь подчеркнутая писателем и в фантастических повестях, и в «Мастере и Маргарите»). Бесполость диктуется идеологизированностью:
«— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый юный из четверых — персикового вида.
— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?
— …Какая разница, товарищ?»