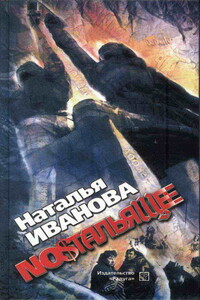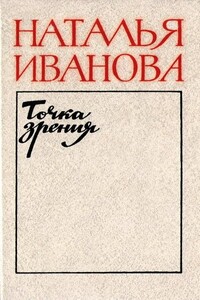Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век | страница 28
«В году 64-м, — вспоминал через четверть века автор, — мне подумалось впервые, что как бы остра ни была проблема сталинизма, это прежде всего проблема самосознания того общества, которое его, сталинизм, создавало и признавало, то есть это проблема и конкретного самосознания конкретных людей, то есть и моя проблема. И мне почему-то показалось (в значительной мере чисто интуитивно), что если мне удастся хоть как-нибудь разобраться в самосознании Раскольникова, то это самосознание и может явиться как бы элементарной (точнее — элементной) клеточкой, моделью самосознания вообще».
А еще точнее — моделью самосознания шестидесятника, уперевшегося в неразрешимое — кровь.
«Как раз в самосознании людей, пытавшихся разобраться в нашем тяжелом кровавом историческом опыте, и была — неопределенность. Как раз и хотелось ее — уничтожить… И это познание себя через Достоевского оказалось отнюдь не веселым».
Шестидесятые годы останутся в истории нашей литературы не только эпохой утверждения правды как главного закона этики и эстетики, но и эпохой создания разветвленной эстетической системы для высказывания этой правды, то бишь эзопова языка. Со второй половины шестидесятых он становился все более изощренным и хитроумным, так как правду все сложнее было донести до читателя прямо.
«Самообман Раскольникова» стал эзоповым словом Карякина о нашей «ближней» истории и современной действительности.
Убийство «с целью грабежа, так как чувствовал бедность» — не к истории ли Октябрьского переворота и затем Гражданской войны приложимы эти слова?
Мысль шестидесятника углубляется в исторический процесс. Нет, прямых аналогий в книге нет, но они с неизбежностью возникали в сознании читателя, желанного и необходимого соавтора для эзоповского текста, бывшего одновременно и мучением, и спасением для самого автора.
Можно сказать, что Достоевский был избран на роль своеобразной ширмы для опасных заявлений.
Вчитаемся, например, в следующий абзац:
«Всеобщность самообмана и придает ему видимость всеобщей правды. Ненормальность кажется нормой, болезнь — здоровьем, и наоборот. Реальности замещаются фантомами, а фантомы действуют как реальности. Все отчуждается. Все переворачивается. Все переименовывается, лишь бы не быть узнанным. Все — в масках, и маски эти уже приросли к лицам, и нельзя их уже просто снять, не сдирая вместе с кожей. Идет жуткий маскарад, принимаемый его участниками за доподлинную действительность. Все лучшее в человеке превращается в худшее. Все худшее выдается за лучшее. Бессовестность почитается "умом", совесть — "глупостью". Самоутверждение приводит к убийству. Самосохранение достигается такой ценой, что грозит сделаться самоубийственным. Человеколюбец становится человеконенавистником. Все ориентиры нравственные — сбиты, все "компасы" — подделаны».