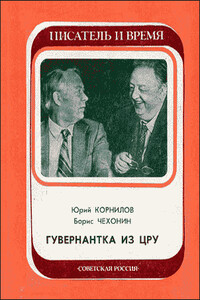Журналистика и разведка | страница 12
Постепенно, страница за страницей, перед нами раскрывалась книга лагерной жизни. Скучной, страшной своим однообразием и отсутствием всякой перспективы представлялась она нам, вольным студентам, приехавшим из далекой Москвы. Заключенные, похоже, были нашими единомышленниками. Им хотелось также, хотя бы немного, разнообразить лагерную рутину. А она со временем становилась все более нетерпимой. День похож на другой. Можно без труда сказать, что тебя ждет завтра, через неделю, месяц — и так до суда. Никаких новых впечатлений. Чем же себя занять? Товарищи знают о тебе почти все, ты о них. Письма из дома не приходят, книг, газет нет. Единственное чтиво — газета на японском языке, издаваемая на Сахалине полковником И.И. Коваленко, ставшим впоследствии главным архитектором советско-японских отношений. Разнообразие вносят только допросы. Чтобы вырваться из этого будничного круга, многие пленные офицеры начали добровольно изъявлять желание работать. Это означало возможность оказаться вне лагеря, в тайге, где строились дороги. Физический труд в лесу на свежем воздухе отвлекает от гнетущих раздумий, укрепляет душу и тело. Некоторые, правда, выходили на работу, поддавшись соблазну сбежать, перейти границу с Китаем. Маньчжурия рядом, там все знакомо, можно добраться и до Японии в неразберихе послевоенных лет. Сбежать из лагеря невозможно — автоматчики, собаки, колючка. Иное дело в тайге. Конвой невелик — несколько человек, ему не уследить за сотнями заключенных.
Побег обнаруживают, как правило, на перекличке перед возвращением в лагерь. По тревоге вооруженные сотрудники НКВД мчатся на джипах из лагеря к месту работ. По следу пускают собак. Через пару часов беглеца привозят в наручниках. Как уйдешь от собак без специальных средств. Да и оповещенное население все равно схватит тебя рано или поздно. В лагере сбежавшего ждет сравнительно мягкое наказание — карцер и уменьшенный рацион питания.
Признаться, про себя мы искренне возмущались слишком мягким обращением лагерных властей с недавними преступниками, у которых руки по локоть в крови. Население Сучана голодало, пленных же кормили, что называется, на убой. Такого рациона не было даже у конвойных. Избиения, пытки категорически запрещались. Сколько раз во время допросов следователь буквально выходил из себя, казалось, вот-вот не выдержит и ударит. Нет, занесенный кулак с грохотом опускался на письменный стол. Допрашивающий хорошо знал — наказание за физическую расправу неминуемо. Самое малое отстранят от работы, затормозят продвижение по службе, а то и вовсе понизят в звании. Вот бы такие порядки на допросах «врагов народа» в тридцатых, сороковых и даже пятидесятых годах! Причины столь мягкого обращения стали понятны позже. Возвращаясь на родину в середине пятидесятых, многие пленные шли прямо из порта в местные отделения компартии и вступали в члены КПЯ.