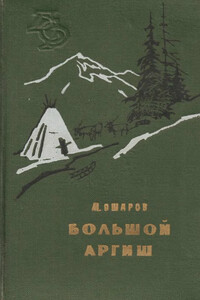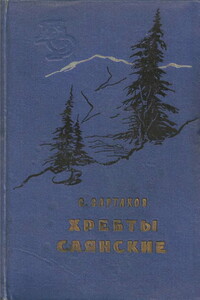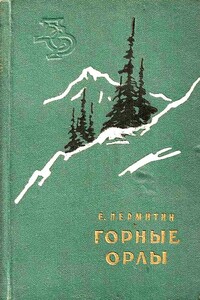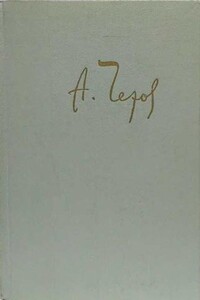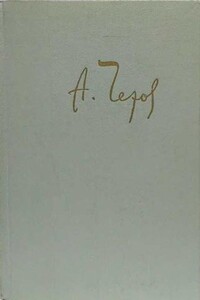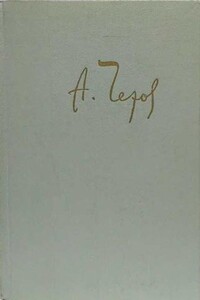Николай Негорев, или Благополучный россиянин | страница 88
А время все шло, и мы скоро перестали удивляться, что нас не водят в сторожку и не заставляют кричать под розгами.
Однажды случилась такая невероятная вещь, что Иван Капитоныч явился на урок в достаточно трезвом состоянии и вздумал сделать диктовку. В то время как он громким баритоном застучал отдельные слоги какой-то речи о Финляндии, «прекрасной в своей дикости», в класс совершенно неслышно вскочил губернатор, точно он к самым дверям приплыл на лодке и только у порога выскочил на твердую землю. На нем была серая солдатская шинель, в руках он держал фуражку с красным околышем. Мы опешили и как-то растерянно, один по одному, поднялись с мест, а не все вдруг, как бы следовало. Иван Капитоныч потерялся еще больше нашего. Книга из рук его выскользнула на пол, и я ясно заметил, что он дрожал всем телом, как в лихорадке.
— Вы еще здесь? — резко крикнул губернатор, махнув нам рукой, чтобы мы сели.
— Здесь, ваше превосходительство, — едва в силах был ответить Иван Капитоныч — так дрожал он весь, и так дрожал его голос.
— Вам давно сказано, чтобы вы подавали в отставку. Я с вами распоряжусь иначе!
Губернатор повернулся и побежал из класса.
— Ваше превосходительство! — с умоляющим трепетом продрожал голос Ивана Капитоныча.
И он бросился вслед за губернатором.
После этого я уже никогда не видал Ивана Капитоныча; другие встречали его на улицах, около кабаков, бесчувственно пьяным, оборванным, с разбитым лицом. Так и погиб он где-нибудь смертью всех русских гениев: или от побоев на пороге кабака, или в больнице от белой горячки.
Когда ушел губернатор, мы узнали, что через неделю будет экзамен тем из великовозрастных мудрецов, которые, в пристальном изучении четырех правил арифметики, оставались в одном классе более двух лет. Вследствие этого распоряжения большинство пансионских старших закопошилось: все начали толковать об экзаменах и предстоящем затем исключении из гимназии.
— Мелочь-то, мелочь-то какая останется! Клопы одни, — с сокрушением говорил один старший другому.
— Да. А прежде бывало: Никитин, Казанцев, Бурдин! У самого полицеймейстера лошадей угоняли! Все равно что студенты!
— Мелочь останется — уж такой свободы не дадут, как прежде.
Такие лебединые песни можно было слышать во всех углах. Почти все были недовольны новыми порядками. Из третьегодников никто и не думал готовиться к экзамену: они примирились с своей долей и думали только о близком возвращении в родительские дома. Они ходили по двое по коридору и сладко рассуждали: