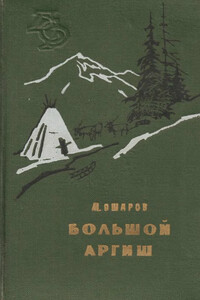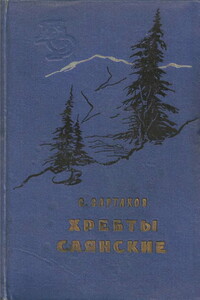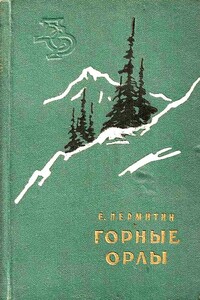Николай Негорев, или Благополучный россиянин | страница 69
Брат был единственным больным в лазарете; он лежал в кровати, под одеялом. В ногах у него сидел на табурете дремавший фельдшер, который, заслышав шум, встрепенулся и вскочил на ноги.
— Вот благодарю, благодарю! — вскричал Андрей, обвивая мою шею голыми руками и целуя меня. — Сколько ты набрал апельсинов! Какой добрый! Поцелуй меня.
Он, еще крепче обвив меня руками, поцеловал.
— Отчего ты, Николя, всегда такой какой-то? — ласково сказал он.
— Какой?
— Точно у тебя всегда голова болит.
— Нет, не болит, — успокоил я его.
— Какой-то ты странный. Ты — добрый мальчик, я тебя люблю, только ты как-то… Ничего ты не говоришь. Тебя не поймешь.
— Чем же ты болен? Или так, чтобы в классы не ходить? — спросил я, чтобы прекратить разговор о моей особе, который грозил перейти на чувствительную почву.
— Да-а. Видишь — я тебе скажу, пожалуй, — ты ведь мне брат…
Я заметил, что у Андрея на глазах навернулись слезы.
— Меня высекли… ужасно! — с трудом удерживаясь, чтобы не заплакать совсем, проговорил он.
— За что?
— Ни за что, — ответил Андрей и зарыдал.
Я вспомнил клевету Сенечки и все подробности моего несправедливого унижения. У меня явилось даже движение рассказать все брату, но я тотчас подумал, что он после будет смеяться надо мной, и остановился. Я молча слушал глухие рыдания брата, придумывая, что бы сказать ему в утешение; но все выдуманные слова казались такими пошлыми, что я не решался их выговорить. Молчание было знаком бездушия и преступной холодности к чужому горю; но до тех пор, покуда брат не успокоился, я не выговорил ни слова, проклиная себя за неповоротливость в придумывании утешительных слов.
Вытерши последние слезы, Андрей высморкался, спрятал платок под подушки и начал рассказывать.
— Видишь ли, я тебе говорил, кажется, про одного ученика Баранцева. Ну, я, как шел последний раз от Шрамов, встретился с ним. Ну, пошли мы вместе; идем, разговариваем. Вдруг навстречу нам генерал. Высокий такой, толстый, седой. Мы ему сделали фронт. Он нас остановил. «Снимай, говорит, сапоги». Я смотрю на него, думаю: не с ума ли он сошел, а у него усы так и трясутся, а брови седые, точно усы, и говорит точно из бочки. Как крикнет на Баранцева: «Садись на землю, снимай сапоги», — я так и присел. Баранцев сел, бедный, на землю и снял сапог. Я думал, что генерал убьет его, так он на него закричал. У него носки были надеты, а у нас велено портянки носить. Велел ему одеть сапог; тот стал во фронт, а он на него давай кричать. Народ около нас собрался. Такой срам! Я стою, жду, что будет. У меня были подвертки надеты, а все как-то страшно. Наконец он повернулся ко мне, а усы у него так вниз и вверх и ходят. «Снимай, говорит, сапог». Черт знает, на улице стыдно, холодно, а тут еще народ собрался. Я сел подле фонаря, снял. Он посмотрел, брови съежил. «Хорошо, говорит, оденься». В это время смотрю — нет Баранцева, и народ смеется. Он, скотина, лататы задал. «Убежал, ваше превосходительство», — кричат все и хохочут. Генерал вырвал у меня из-за пуговицы билет, побагровел весь. «Марш, говорит, в корпус». Я отдал ему честь и тоже чуть не бегом пустился от него спасаться. Иду, иду и оглянуться боюсь. Сам не знаю, чего боюсь. Пришел в корпус. Вот тут-то и вышла история.