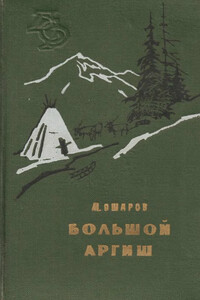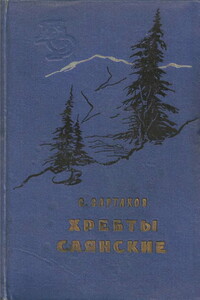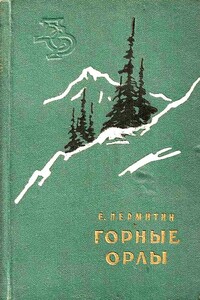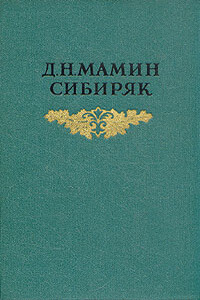Николай Негорев, или Благополучный россиянин | страница 25
Но Андрей, не слушая ее, убежал из комнаты.
— Какой он мужик! — объявила Ольга.
— Он, может быть, нечаянно, — заметила бабушка.
— Нет, он скверный, злой мальчишка! — запальчиво вскричала тетушка и отправилась к отцу с жалобой.
Но через минуту она воротилась назад еще с большей злобой, не вынеся из объяснения с отцом ничего утешительного, кроме серебряной ложки, которую тетка тут же в сердцах бросила на окно и чуть не разбила стекла.
— Это ему не пройдет, — пробормотала она, садясь снова за стол.
— Успокойтесь, душенька Фелисада Андревна, — со вздохом сказала Авдотья Николаевна, подавая тетке стакан воды с самой сокрушенной физиономией.
— Его высекут, — сказала ни с того, ни с сего Ольга.
После этой сцены тетушка дулась весь обед и ничего почти не ела. За вечерним чаем отец вышел к нам из своего кабинета, что случалось очень редко, в особенности при гостях.
— Ну, приятель, — сказал он, ласково ероша Андрею волосы своими толстыми пальцами, — ну, как ты npoсверлил святую ложку?
— Просверлил, — мрачно пробормотал брат.
— Ну, так вот, мы через неделю отправимся в город, в корпус — там будет много ложек к твоим услугам. А ты, Коля, хочешь в гимназию? — обратился ко мне отец.
— Мне все равно.
— И отлично. Пора уж за науку приниматься.
И действительно было пора: мне было двенадцать лет, а брату — тринадцать.
II
ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕИЗБЕЖНЫЙ ВО ВСЯКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПОВЕСТИ СЕМИНАРИСТ
Брат давно уже бредил корпусом и, как только узнал, что скоро наденет военный мундир и получит такое ружье, из которого можно будет стрелять не горохом, а порохом, пришел в настоящий восторг. Барабан его не умолкал, так как он услышал где-то солдатскую песню и упражнялся, разучивая ее с аккомпанементом этого музыкального инструмента.
распевал он на разные голоса в нашей комнате, и если я замечал ему, что Федосья очень тревожится, принимая его пение за вой собаки по покойнику, Андрей начинал петь другую песню про штафирку — чернильную душу. У него не было совсем слуха, и понятно, что его вокальные упражнения выводили меня из себя, кроме того, что песню о чернильной душе я принимал как личное себе оскорбление. Последнее обстоятельство я, впрочем, скрывал от Андрея самым тщательным образом, так как показать, что меня сердят его насмешки, значило бы доставить ему полное торжество. Я это уже давно понял и нападал на него только за неспособность к пению.
— Если ты в корпусе будешь так же приятно петь, тебя сразу отучат, — стращал я его.