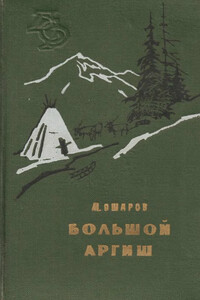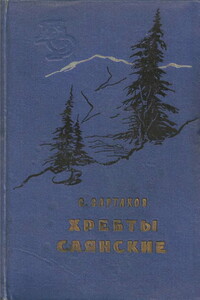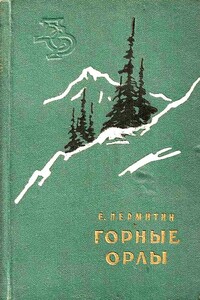Николай Негорев, или Благополучный россиянин | страница 20
Вспоминая теперь нашу жизнь в одной комнате и наши беспрестанные ссоры, я никак не могу объяснить одного обстоятельства: почему брат ни разу не покушался поколотить меня. В этом ему никто не мог помешать, и покуда прибежала бы из соседней комнаты Лизина нянька Федосья, Андрей мог оттузить меня весьма порядочно. В полной безнаказанности за это он мог быть уверен. Правда, тетушка пришла бы в негодование и заговорила бы о приличиях высшего московского общества, но Андрей на ее выговоры не обращал никакого внимания. Что касается до отца, то он никому из нас, никогда в жизни, не делал никаких выговоров, отвечая добродушным смехом на все жалобы тетушки, направленные, конечно, по большей части против Андрея, о котором она всегда сокрушалась как о человеке, невозвратно погибшем. Находясь в полном повиновении у тетушки и некоей Авдотьи Николаевны — нашей гувернантки, поминутно вздыхавшей без всяких видимых причин, точно она только что отошла от постели умирающего друга, — я очень завидовал независимости Андрея, но никогда не покушался завоевать себе хоть половину той свободы, какой он пользовался. Читая Плутарха и находя, что почти все великие люди в моем возрасте чуждались детских игр, я гасил свою зависть, соображая, что создан великим человеком и что взамен физических совершенств имею большое преимущество перед братом в умственном отношении. Но это преимущество не мешало мне, впрочем, больше любить игру в дурачки с Федосьей или просто шатанье в лесу, нежели чтение вслух, по приказу тетушки, каких-то стародавних книг, напечатанных на мягкой толстой бумаге, от которой пахло клопами, кожей и жасмином. Я помню мучительные вечера, когда тетушка, поставив перед своим носом свечу и кропотливо нанизывая петли своего вязанья, томила меня над повестями госпожи Жанлис или благочестивыми размышлениями госпожи Геи, в которых я понимал очень мало и еще меньше находил занимательности. Читая, я впадал в самые разнородные тоны, начиная от умилительного пафоса до самого жалобного, минорного тона. То душил меня кашель, то чесалось в носу, то хотелось пить; но ничто не помогало; все эти хитрости были только паллиативными мерами, и, напившись воды или высморкавшись, я принужден был снова приниматься за невыносимое рассуждение о вреде и пользе какого-нибудь любочестия. Тетка как будто не обращала внимания на мое нетерпение и скуку: она спокойно сидела, наклонившись над вязаньем, и, по временам взглядывая на нее, я видел только белый чепчик и две косички прилизанных седых волос. Нетерпение мое выходило из всяких пределов, я перевертывал сразу пять или десять страниц, и тем же ровным голосом, как будто ни в чем не бывало, продолжал чтение, наивно воображая, что тетка ничего не замечает. Но и этот маневр не удавался. «Ну, что ты?» — холодно спрашивала она, брала у меня книгу, отыскивала страницу и клала ее передо мной с спокойствием инквизитора, не чувствующего чужой боли под пыткою. Безучастно выговаривая семиколенные периоды, я уносился далеко мыслями к деревьям, на которые, может быть, лазит теперь брат, к огороду, где он, может быть, запрягает теперь собак в маленькую тележку, и только запах клопов или жасмина при перевертывании страницы выводил меня из задумчивости. Даже воображая брата лишенным своих коричневых друзей, я во время исполнения моих читальщицких обязанностей находил, что он в тысячу раз счастливее меня и вовсе не скучает, играя с нянькой в карты или слушая ее воспоминания о двенадцатом годе, когда она была еще маленькой девчонкой и конвоировала вместе с другими пленных французов, коченевших от холода. Но и без старухи Федосьи он мог быть счастлив, толкаясь на кухне и забавляясь сальными шутками кучера Ефима, который пользовался, как сказано выше, его особым расположением.