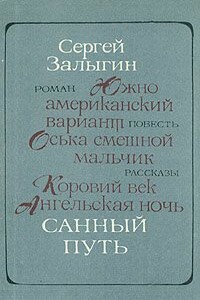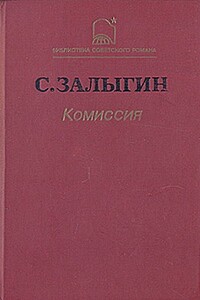К вопросу о бессмертии | страница 43
— Иди, Сергей, пересчитай. Быстренько! — подтвердил Музалевский. — А у нас тут еще дела, мы подождем.
— Не знаю, как это и сделать. Разве что категорию грунтов принять другую?
— Вот-вот! — обрадовался заказчик. — Прими какую хочешь категорию, а мы тебе потом в нашем заказе исходные данные переделаем! Мы согласуем.
Я пересчитал, получилось больше 100 тысяч, я пересчитал еще раз — 881 Ура! Я пошел сдавать свою работу и получил похвалу:
— Молодец. Да ведь и быстро-то как сообразил!
Вот это и была та практика, которую я распознал тогда впервые: дело не в том, что и сколько стоит, а в том, чтобы использовать деньги точно в тех пределах, в которых они где-то, когда-то и кем-то отпущены. При таком условии может ли в принципе развиваться техника? Тем более экономика? Никогда! Здесь теряются не только деньги, затраченные на данный объект, — теряется, исчезает сама шкала ценностей, мы не знаем истинной стоимости объектов, не можем выстроить их в ценностный ряд, не знаем что дороже, а что дешевле, что есть чистая прибыль, а что убыток, а значит, не можем и разработать варианты и выбрать из них лучший, «меченые» деньги, не будучи деньгами в полном смысле, определяют всю нашу экономику.
С земледельцем у нас иначе и не говорят, как только требуют от него — и план требуют, и сверх плана требуют, и утильсырье требуют, и лозунги с портретами в помещениях правлений и управлений требуют. Вся жизнь селянина, вся его история вот уже в нескольких поколениях проходит под знаком бесконечных требований к нему. Рабочего или служащего хоть на ночь требователи оставляют в покое, а к колхознику и в полночь запросто постучится председатель или бригадир, а если постучится — значит, с требованием. Прочтите заново толстовское «Утро помещика» — у помещика не было и десятой доли тех требований к своим крестьянам, которые предъявляются к тем, кто еще в детстве провозглашал: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Вот и ответ на вопрос о том, как и на что расходуется трудолюбие народа, его мыслительный потенциал, в частности способность к оценке результатов своего труда, способность к предвидению своего будущего. Хотя бы и самого ближайшего, завтрашнего. Уму непостижимо — каким образом оказалось возможным до такой степени исказить идеи социалистического земледелия да и социализма тоже?! Тем более что соцземледелие-то ведь не на пустом месте возникло, в ряде случаев оно могло опереться на опыт крестьянской общины. Был такой автор в дореволюционной Сибири — Швецов. Из его труда «История Алтайской крестьянской общины» можно узнать, что на Алтае колхозы, по существу, были еще… в начале века. Ну, конечно, они создавались не по «примерному» уставу сельхозартели, но устав ТОЗа (товарищества по совместной обработке земли) к ним подходил как нельзя лучше — машины они покупали в складчину и использовали сообща, стадо содержали и племенную работу вели сообща, газеты и журналы выписывали сообща, а маслоделием занимались уже в подлинных артелях.