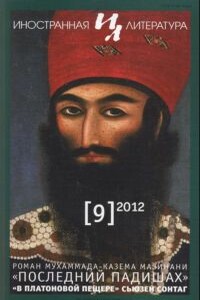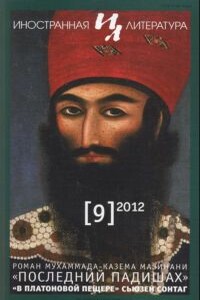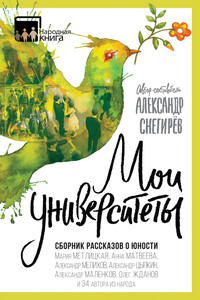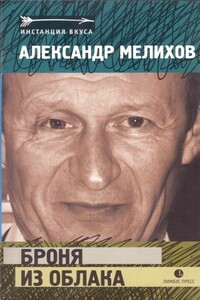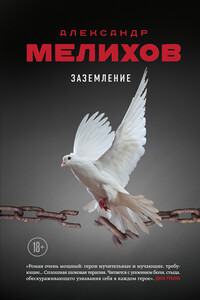Вдохновители и соблазнители | страница 32
Похоже, с сюрреализмом именно это и произошло.
Спасибо партии!
Мы, свободомыслящие и свободолюбивые юнцы 60-х, физики и лирики, даже не подозревали, что наше презрение к бюрократическому советскому социализму оставляет и нас самих без экзистенциальной защиты — без ощущения причастности к чему-то великому, прекрасному и долговечному. Дабы спасти хоть что-то из наследия отцов, мы бессознательно искали неких подлинных коммунистов, к которым можно было бы припасть душой, не опасаясь испачкаться — искали и в собственном прошлом, среди народовольцев и комиссаров в пыльных шлемах, и на Западе, среди героических интербригадовцев, среди борющихся латинос и победивших барбудос, которые были всем хороши при очень, однако, серьезном недостатке: они явно не имели никакого отношения к культуре, к искусству. Без чьей поддержки даже самый распрекрасный атлет и герой не может ощутить свою жизнь как красивую и значительную, покуда она никем не воспета.
Советское искусство для этой роли мало подходило из-за своей почти тотальной зараженности пропагандистскими штампами, да и вообще мы выстраивали свою значительность на ироническом противостоянии всему советскому — уже из-за одного этого нам приходилось тянуться к раскрепощенному западному искусству. Но если какой-то крупный западный художник оказывался к тому же еще и коммунистом — подлинным, разумеется, у неподлинных не было карьерных причин вступать в компартию, — такого хотелось полюбить вдвойне.
Сегодня мне хочется оглянуться на святую троицу наших тогдашних любимцев: Мазерель, Гуттузо, Пикассо, — что о них писали тогда и какими они видятся сейчас.
Писали, в общем-то, со знанием дела. Монография В. Раздольской «Мазерель»[51] и сегодня выглядит вполне квалифицированно, если не считать того, что слабости Мазереля в ней объявляются его достоинствами. Упрощенное, черно-белое разделение мира на Кротких угнетенных и злобных угнетателей, упрощенные, плакатные решения трагически сложных общественных проблем (священник, благословляющий пушку, буржуй в цилиндре, выставляющий перед собой беззащитного новобранца) провозглашаются глубокими социальными обобщениями, наивный утопический оптимизм превозносится как доблесть, зато каждая нота сомнения, неоднозначности со вздохом признается снижением творческого накала.
Творчество Мазереля не случайно имело больший успех среди литераторов, чем среди живописцев: он любил строить графические циклы (иногда в «поистине кинематографическом темпе»), стараясь графическую выразительность дополнить сюжетной повествовательностью. Так, например, цикл «Идея» состоит из восьмидесяти трех графических листов: то Идею, нагую женскую фигурку, любовно держит в руках ее творец, то за нею гонятся преследователи, то ее жгут на площади под ликование буржуев, а она вместе с дымом возносится в небеса, то за несчастной Идеей гонится разъяренная толпа, то она, уже вознесшаяся из пламени, бежит над проводами… Образ, может быть, и не лишенный поэзии, но очень уж опять-таки упрощенный, хотя на отдельных листах гонители предстают менее звероподобными, а потому более интересными, а один озабоченный седобородый жандарм даже обретает индивидуальность. Однако никакое мастерство и никакие частные находки не в силах преодолеть эту пропагандистскую примитивность: мерзкие гонители и трогательная беззащитная их жертва. Ведь сколько прекраснодушных радей несет в себе смертельную опасность и сколько идей самых мудрых и благородных гибнет не от преследований, а от равнодушия! От равнодушия людей вовсе даже и не злых, а просто непонятливых, поглощенных чем-то другим…