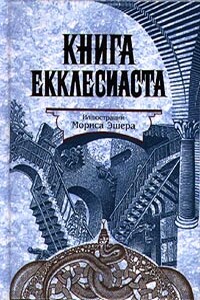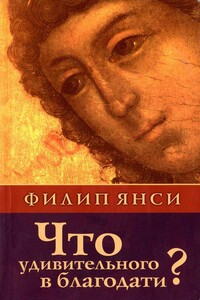У истоков культуры святости | страница 17
С «омиусианским аскетизмом» связано и начало константинопольского монашества[100]. Одним из виднейших деятелей омиусианства являлся Македоний, бывший влиятельным клириком при Александре Константинопольском (ум. 337), а потом и столичным предстоятелем (341–360); он находился в близких отношениях с Евстафием Севастийским, который во время архиепископства Македония долго проживал в Константинополе. Созомен (кстати, относившйй–ся к омиусианам отрицательно, считая их еретиками), характеризует их так: «Жизнь их, на которую ' народ больше всего обращает внимание, была безукоризненна, походка — степенна, правила препровождения времени — сходны с монашескими, речь — проста, нрав — привлекателен». Далее он повествует об известной среди столичных омиусиан личности Марафония, который, «в должности государственного счетчика при областных войсках нажив большое богатство, оставил военную службу и сначала сделался смотрителем общины больных и бедных, а потом, по убеждению севастийского епископа Евстафия, начал вести подвижническую жизнь и основал в Константинополе общину монахов, которая с того времени преемственно сохраняется доныне»[101]. Сократ также сообщает, что Марафоний, возведенный Македонием в сан диакона (и, вероятно, по его благословению), «ревностно занимался устроением мужских и женских монастырей»[102]. Так было положено начало столичному иночеству.
Во второй половине IV–начале V вв. оно значительно приумножилось, особенно в правление благочестивого императора Феодосия Великого. Монахи стали обладать значительным влиянием в церковной жизни Константинополя, что отнюдь не всегда способствовало стяжанию ими подлинно иноческих добродетелей. Это проявилось тогда, когда на столичную кафедру был избран св. Иоанн Златоуст. Сам истинный монах, он хорошо видел и осознавал ту серьезную опасность, которая угрожала монашеству уже его времени, когда иноческое облачение порой служило лишь личиной, прикрывающей и скрывающей земные страсти: гордыню, властолюбие, тщеславие, леность и пр. [103] Ставя знак равенства между монашеством и подлинным христианством, Златоустый отец, обладая архиерейской властью, старался пресечь эти «иноческие болезни»