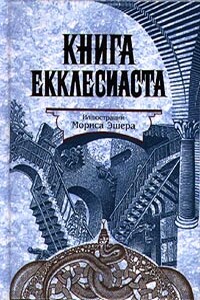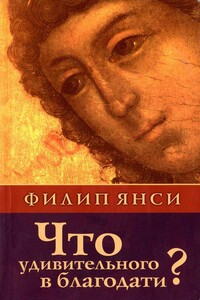У истоков культуры святости | страница 15
Подобно сирийскому, малоазийское монашество также возросло на «автохтонной» основе[81]. Глубинные истоки аскетического течения в Малой Азии остаются скрытыми от нас; обнаруживается оно лишь в 30–х годах IV в. и обозначается иногда, как «омиусианский аскетизм»[82], поскольку главные представители его принадлежали именно к этой догматической «партии» эпохи арианских споров[83]. Душой данного движения был Евстафий Севастийский, а «теоретиком» — Василий Анкир–ский, который в своем трактате «О девстве» изложил основные принципы «омиусианской аскети–ки», практически ничем не отличающиеся от аске–тики православной. Правда, можно предполагать, что в «омиусианском аскетизме» существовало "крайнее течение, получившее название «евстафиан». Это течение и осудил Гангрский Собор (середина IV в.) в своем 21 каноне[84]; данные каноны получили признание вселенской Церкви[85]. Однако исторические обстоятельства данного Собора вызывают, по нашему мнению, ряд вопросов. Прежде всего, неясно, когда он состоялся[86] и при каких конкретных обстоятельствах. Если признать традиционную дату (40–е годы IV в.), то некоторые недоумения связаны с председательствующем на этом Соборе неким епископом Евсевием. Высказывается предположение, что он тождественен Евсевию Никомидий–скому — известному защитнику Ария и главе т. н. «арианствующей партии»[87]. Если данное предположение верно, то тогда каноны указанного Собора могут носить следы церковно–догматической борьбы той эпохи. Например, каноны гласят, что «евстафи–ане» считали супружество несовместимым с истинно христианской жизнью, а потому расторгали семейные союзы. Далее, говорится, что «евстафиане» чуждались общих богослужений, устраивая свои собственные; презирали женатых священников; носили особые одежды (περιβολαΐα — одеяние философов и монахов; pallium), чтобы подчеркнуть свою исключительность; женщины у них одевались в мужские одежды, а рабы считали, что они могут уходить от своих господ[88]. Таким образом каноны справедливо осуждают крайности «сектантского аскетизма» и его антицерковный характер. Однако, в конкретно–исторической ситуации под подобное осуждение могли попасть и здоровые тенденции «омиусианского аскетизма». Можно предположить, что подвижники и подвижницы, вероятно, являлись серьезнейшей опорой омиусиан и прещения Собора могли быть направлены на то, чтобы лишить этой опоры оппонентов ариан. В таком случае понятна оппозиция «евстафиан» клиру, ибо то был, по их мнению, клир еретический; соответственно, они старались избегать и богослужебных собраний еретиков. Расторжение, брачных союзов ради принятия «ангельского чина» могло осуществляться по взаимному согласию — примеров такого рода предостаточно в истории православного монашества. Презрение к женатым священникам можно объяснить их неправомысленными взглядами или низким нравственным и духовным уровнем