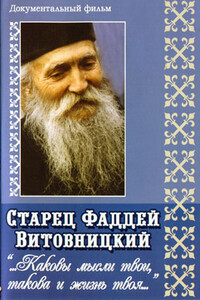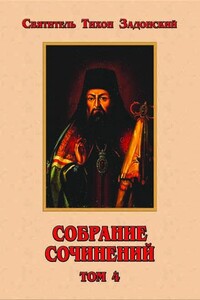Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества | страница 38
Важно подчеркнуть, что непосредственным толчком к такому шагу послужило евангельское чтение в храме (Мф. 19, 21), ибо, услышав однажды его, он и принял окончательное решение. Это еще раз подтверждает отмеченное выше значение Священного Писания как непосредственного источника происхождения монашества[141], которое, естественно, не могло возникнуть без благодатной помощи свыше и личного подвига самого преподобного. Продав доставшуюся ему по наследству очень плодородную землю (300 ауров, т. е. около 80 гектаров — состояние значительное), а также движимое имущество, и раздав деньги нуждающимся, Антоний поручает сестру на воспитание «известным и верным девственницам (γνωρίμοις καΐ πισταϊς παρθένοις — вероятно, подразумевается небольшая община их, очень близкий прообраз женских монастырей), а сам начинает подвизаться недалеко от своего дома, внимая себе и мужественно перенося тяготы аскезы (αύτος προ της οικίας έσχόλαζε λοιπον τή ασκήσει, πρσέχων έατω καΐ καρτερικώς εαυτόν αγων).[142] По словам св. Афанасия, в это время «в Египте еще были немногочисленны монастыри (μοναστήρια) и монах не знал совсем великой пустыни (ούδ ολως ηδει μονάχος την μακραν έρημον). Каждый из желающих внимать себе подвизался, уединившись недалеко от своего селения». К одному из таких анахоретов — старцу, с юности подвизающемуся в уединенной жизни (γέρων εκ νεότητος τον μονήρη βίον άσκήσας), и пришел молодой Антоний. Но он не ограничился этим, ибо, если слышал о каком‑либо радетеле [благочестия] (τινα σπουδαίον), то тотчас шел к нему и, как «мудрая пчела», собирающая нектар с разных цветов, обогащался и его опытом. Эти слова жизнеописателя преп. Антония ясно показывают, что вторым главным источником возникновения монашества, являемого миру в лице одного из первых основателей его, было живое церковное Предание. Носителями его (в аспекте духовном и аскетическом) были старцы, ибо «старчество современно монашеству. Ищущий монашеского подвига, оставив мир, шел к опытному подвижнику, поступал под его руководство и подвижник становился для него аввой — старцем. Для начинающего инока в воле и рассуждении старца заключалась вся дисциплина внутренняя и внешняя — монашеская и монастырская. Вот простейшая форма старчества, совмещавшаяся с